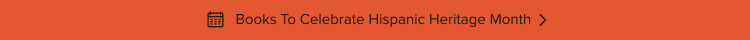Narine Abgaryan's Blog, page 14
September 20, 2017
С недавних пор Гугл моментально зависал, как только Сонеч...
С недавних пор Гугл моментально зависал, как только Сонечка открывала его стартовую страницу. Предпочитал умереть, чем испытать шок от очередного её мастерски сформулированного вопроса.
— Мурашки на ракушках уха! — бойко набирала сестра в поисковой строке — вопросы она предпочитала задавать исключительно на своём сомнительном русском.
Гугл, вздыхая, рылся в закромах, и, пряча взгляд, выдавал несколько жалких, совершенно идиотских ответов.
Сонечка, сходив по каждой ссылке, сердито фыркала — вот дебил, даже на такой простой вопрос не умеет ответить!
«Может теперь она к конкурентам пойдёт?!» — загорался надеждой Гугл.
Но сестре некуда было ходить — конкуренты давно уже её забанили.
— Ладно, сейчас сформулирую понятнее, — ворчала она, стирая мурашек с ракушек уха.
У Гугла начинал дёргаться глаз. В предыдущий раз, когда она сформулировала понятнее, запрос звучал так: «Могучее спинное движение, снимающее напряжение в центре лба».
Пока, обливаясь холодным потом, он скатывал из красной шерстяной нитки шарик, чтобы приложить к левому веку (проверенный бабушкин метод от дурного сглаза), сестра успевала набрать новый запрос:
— Постоянное пребывание мурашек в ушной области! — и, чуть поразмыслив, она добавляла исчерпывающее разъяснение для альтернативно одарённых, — в любое время суток дня и ночи!
— Твою же родительницу! — причитал Гугл, перебирая трясущимися руками содержимое своей памяти, где было пусто, гулко и черно, словно перед сотворением мира.
Сонечка терпеливо ждала, заедая клубничное варенье солёной капустой. По ракушкам ушей вот уже который день ползали колючие мурашки. Стряхнуть невозможно, уснуть — тем более: успокоения нет ни на боку (мурашки мешают), ни на животе (уляжешься на него, а как же!), ни на спине — мешает напряжение в центре лба. Видно, от ноющей поясницы отдаёт. И ведь никому толком не пожалуешься — кругом черствые, бессердечные, бессовестные люди. Сёстры упорно игнорируют её стенания, всегда воюющие родители, внезапно объединившись в дружный тандем, проводят круглые сутки на природе, с завидным постоянством забывая дома мобильные телефоны, а муж-предатель вот уже пятый день не вылезает из своей военной части. Сонечка сама слышала, как он радостно сообщил об этом сослуживцу — выпросил себе, мол, несколько дежурств подряд, отдохну хоть.
Меж тем Гугл приносит в клюве семь жалких ответов, один бессмысленнее другого. Прочитав каждый и обозвав его болваном, Сонечка захлопывает ноутбук и уходит есть мороженое с острыми чипсами.
Гугл переводит дыхание. «Осталось продержаться всего-то два, каких-то два жалких месяца!» — причитает он, перебирая в своей истерзанной памяти все запросы, по которым на протяжении вот уже семи месяцев бегал савраской, покрываясь от ужаса и отчаяния мурашками не только в области ракушек ушей, но и во всех остальных своих областях.
«Восстановление отдушины между лопатками посредством ортопедической подушки».
«Радикулит правого локотка».
«Магнетическое отторжение внутреннего органа в верхней части печени».
«Скоротечное битие сердца в седьмой позвоночник».
«Урчание левого желудочка» (и т.д., и т.д!)
Счастливым полуднем 19-го сентября мучения Гугла временно прекратились — Сонечка родила мальчика.
Наевшись подорожника с пустырником и напившись валерьянки, он теперь нервно отсыпается. В запасе у него всего два дня на восстановление сил. Далее новоиспечённая мамочка выпишется с младенцем из роддома, и какие безумные запросы посыплются на его бедовую голову, одному богу известно.
P.S. И всё-таки Гуглу не так повезло, как нам. Он, например, не видел, как Сонечка заходит в лифт. Зато мы видели и каждый раз смеялись до икоты. Когда дверцы лифта раскрывались, сестра сначала обшаривала ногой пол, чтобы удостовериться, что он на месте. Далее она, сильно отклячив попу, просовывала в лифтовую кабину голову и внимательно изучала её на предмет повреждений. И только потом, удостоверившись, что всё в порядке, втаскивала туда свой круглый живот, который всё это время предусмотрительно держала снаружи.
— Мурашки на ракушках уха! — бойко набирала сестра в поисковой строке — вопросы она предпочитала задавать исключительно на своём сомнительном русском.
Гугл, вздыхая, рылся в закромах, и, пряча взгляд, выдавал несколько жалких, совершенно идиотских ответов.
Сонечка, сходив по каждой ссылке, сердито фыркала — вот дебил, даже на такой простой вопрос не умеет ответить!
«Может теперь она к конкурентам пойдёт?!» — загорался надеждой Гугл.
Но сестре некуда было ходить — конкуренты давно уже её забанили.
— Ладно, сейчас сформулирую понятнее, — ворчала она, стирая мурашек с ракушек уха.
У Гугла начинал дёргаться глаз. В предыдущий раз, когда она сформулировала понятнее, запрос звучал так: «Могучее спинное движение, снимающее напряжение в центре лба».
Пока, обливаясь холодным потом, он скатывал из красной шерстяной нитки шарик, чтобы приложить к левому веку (проверенный бабушкин метод от дурного сглаза), сестра успевала набрать новый запрос:
— Постоянное пребывание мурашек в ушной области! — и, чуть поразмыслив, она добавляла исчерпывающее разъяснение для альтернативно одарённых, — в любое время суток дня и ночи!
— Твою же родительницу! — причитал Гугл, перебирая трясущимися руками содержимое своей памяти, где было пусто, гулко и черно, словно перед сотворением мира.
Сонечка терпеливо ждала, заедая клубничное варенье солёной капустой. По ракушкам ушей вот уже который день ползали колючие мурашки. Стряхнуть невозможно, уснуть — тем более: успокоения нет ни на боку (мурашки мешают), ни на животе (уляжешься на него, а как же!), ни на спине — мешает напряжение в центре лба. Видно, от ноющей поясницы отдаёт. И ведь никому толком не пожалуешься — кругом черствые, бессердечные, бессовестные люди. Сёстры упорно игнорируют её стенания, всегда воюющие родители, внезапно объединившись в дружный тандем, проводят круглые сутки на природе, с завидным постоянством забывая дома мобильные телефоны, а муж-предатель вот уже пятый день не вылезает из своей военной части. Сонечка сама слышала, как он радостно сообщил об этом сослуживцу — выпросил себе, мол, несколько дежурств подряд, отдохну хоть.
Меж тем Гугл приносит в клюве семь жалких ответов, один бессмысленнее другого. Прочитав каждый и обозвав его болваном, Сонечка захлопывает ноутбук и уходит есть мороженое с острыми чипсами.
Гугл переводит дыхание. «Осталось продержаться всего-то два, каких-то два жалких месяца!» — причитает он, перебирая в своей истерзанной памяти все запросы, по которым на протяжении вот уже семи месяцев бегал савраской, покрываясь от ужаса и отчаяния мурашками не только в области ракушек ушей, но и во всех остальных своих областях.
«Восстановление отдушины между лопатками посредством ортопедической подушки».
«Радикулит правого локотка».
«Магнетическое отторжение внутреннего органа в верхней части печени».
«Скоротечное битие сердца в седьмой позвоночник».
«Урчание левого желудочка» (и т.д., и т.д!)
Счастливым полуднем 19-го сентября мучения Гугла временно прекратились — Сонечка родила мальчика.
Наевшись подорожника с пустырником и напившись валерьянки, он теперь нервно отсыпается. В запасе у него всего два дня на восстановление сил. Далее новоиспечённая мамочка выпишется с младенцем из роддома, и какие безумные запросы посыплются на его бедовую голову, одному богу известно.
P.S. И всё-таки Гуглу не так повезло, как нам. Он, например, не видел, как Сонечка заходит в лифт. Зато мы видели и каждый раз смеялись до икоты. Когда дверцы лифта раскрывались, сестра сначала обшаривала ногой пол, чтобы удостовериться, что он на месте. Далее она, сильно отклячив попу, просовывала в лифтовую кабину голову и внимательно изучала её на предмет повреждений. И только потом, удостоверившись, что всё в порядке, втаскивала туда свой круглый живот, который всё это время предусмотрительно держала снаружи.
Published on September 20, 2017 06:53
September 17, 2017
Раз джетлаг не даёт мне нормально поспать, давайте быстр...
Раз джетлаг не даёт мне нормально поспать, давайте быстренько расскажу историю из детства — недавно с сестрой вспомнили, очень смеялись. Мне было восемь, Каринке шесть, а нашей подруге Ляле — семь. Лето, горы, солнечный ветер, окрашенные хной ладошки, бесконечные дни счастливой беготни. Наша семья уже построила крохотный дачный домик, а родители Ляли пока раздумывали над этим, но регулярно, по выходным, выезжали к нам. Дни они приводили у нас, а ночевали в палатке, которую разбили за домом.
Одним ранним утром в окно поскреблась Ляля.
— Чего тебе? — высунулась я к ней.
У Ляли было такое выражение лица, что я сразу же растолкала Каринку. У этой Маркарьян, говорю, снова что-то стряслось.
Мы быстро оделись и вылезли в окно.
— Пойдём, покажу чего! — таинственным шёпотом сообщила Ляля и припустила галопом к палатке.
Мы с Каринкой, не задавая лишних вопросов, побежали за ней. И правда, чего время на расспросы терять, когда сам сейчас всё увидишь? У входа в палатку наша подруга резко затормозила, обернулась и приложила палец к губам. Мы, чудом не врезавшись в неё, тоже притормозили и задержали на всякий случай дыхание. Ляля торжественно отодвинула шторку и жестами велела заглянуть внутрь.
Мы заглянули, но ничего интересного в палатке не увидели: Лялина мама тётя Метаксия спала, свернувшись калачиком, Лялин папа дядя Валод храпел ей в затылок бензопилой.
— И чего мы должны были увидеть? — сердитым шёпотом полюбопытствовала Каринка.
Ляля разочарованно выдохнула.
— Эх, опоздали, папа повернулся набок. Когда я проснулась, он лежал на спине, раскинув руки. Трусы задрались и открылся его пупулик. Я сначала хорошенечко его рассмотрела, а потом прибежала за вами, чтобы вы тоже на него посмотрели.
Мы подождали еще немного, в надежде, что дядя Валод повернётся выгодным ракурсом, давая нам тоже возможность рассмотреть свой пупулик. Но дядя Валод и не думал этого делать, лежал себе на боку и наращивал децибелы.
Пришлось уходить, несолоно хлебавши. В качестве сатисфации мы выкрали из папиного бардачка сигареты «Арин-Берд», спрятались за малинником и выкурили их, глядя затуманенным взором в утренние дали. От дыма першило в горле и мутило. Мы легли на влажную траву и раскинули руки. Сразу стало легче.
— А как он хоть выглядел, этот пупулик? — как бы между прочим спросила я.
Ляля долго и напряжённо молчала.
— Ну такой, — наконец выговорила она, — красный и весь-весь в мурашках.
Мы потом с дядей Валодом целое лето не здоровались. И вообще делали вид, что его не существует. А с тётей Метаксией наоборот, здоровались по сто раз на дню. И очень её жалели. Еще бы, бедная женщина, с таким троглодитом жить!
Одним ранним утром в окно поскреблась Ляля.
— Чего тебе? — высунулась я к ней.
У Ляли было такое выражение лица, что я сразу же растолкала Каринку. У этой Маркарьян, говорю, снова что-то стряслось.
Мы быстро оделись и вылезли в окно.
— Пойдём, покажу чего! — таинственным шёпотом сообщила Ляля и припустила галопом к палатке.
Мы с Каринкой, не задавая лишних вопросов, побежали за ней. И правда, чего время на расспросы терять, когда сам сейчас всё увидишь? У входа в палатку наша подруга резко затормозила, обернулась и приложила палец к губам. Мы, чудом не врезавшись в неё, тоже притормозили и задержали на всякий случай дыхание. Ляля торжественно отодвинула шторку и жестами велела заглянуть внутрь.
Мы заглянули, но ничего интересного в палатке не увидели: Лялина мама тётя Метаксия спала, свернувшись калачиком, Лялин папа дядя Валод храпел ей в затылок бензопилой.
— И чего мы должны были увидеть? — сердитым шёпотом полюбопытствовала Каринка.
Ляля разочарованно выдохнула.
— Эх, опоздали, папа повернулся набок. Когда я проснулась, он лежал на спине, раскинув руки. Трусы задрались и открылся его пупулик. Я сначала хорошенечко его рассмотрела, а потом прибежала за вами, чтобы вы тоже на него посмотрели.
Мы подождали еще немного, в надежде, что дядя Валод повернётся выгодным ракурсом, давая нам тоже возможность рассмотреть свой пупулик. Но дядя Валод и не думал этого делать, лежал себе на боку и наращивал децибелы.
Пришлось уходить, несолоно хлебавши. В качестве сатисфации мы выкрали из папиного бардачка сигареты «Арин-Берд», спрятались за малинником и выкурили их, глядя затуманенным взором в утренние дали. От дыма першило в горле и мутило. Мы легли на влажную траву и раскинули руки. Сразу стало легче.
— А как он хоть выглядел, этот пупулик? — как бы между прочим спросила я.
Ляля долго и напряжённо молчала.
— Ну такой, — наконец выговорила она, — красный и весь-весь в мурашках.
Мы потом с дядей Валодом целое лето не здоровались. И вообще делали вид, что его не существует. А с тётей Метаксией наоборот, здоровались по сто раз на дню. И очень её жалели. Еще бы, бедная женщина, с таким троглодитом жить!
Published on September 17, 2017 07:02
September 16, 2017
Дорогие жители Сан Франциско, сегодня буду у вас. Если ес...
Дорогие жители Сан Франциско, сегодня буду у вас. Если есть желание пообщаться, приходите на встречу. Поговорим, посмеёмся, пофотографируемся. Я почитаю вам всякого своего. В общем, обещаю дружескую, почти семейную обстановку. Буду рада встрече.
3365 Sacramento St, San Francisco, 18.30.
3365 Sacramento St, San Francisco, 18.30.
Published on September 16, 2017 05:47
September 12, 2017
Город Ангелов — это не только аллеи славы, долгие песчаны...
Город Ангелов — это не только аллеи славы, долгие песчаные пляжи, переливающиеся огнями биллборды, шумные магистрали, дорогие особняки. Город Ангелов — это невозможной красоты облака, раскинутые чудным ворохом над головой. К ночи, когда суета притихает и ветер приносит далёкий голос океана, небесная прядильщица зажигает звёзды, выпускает луну, чтоб та, касаясь дном макушек гор, скользила по небосводу, озаряя мир, достаёт старое веретено и садится прясть из этих облаков человеческие судьбы, шёпотом напевая тоскливую негритянскую колыбельную — the moonlit sky watches over you, so close your eyes, baby blues…
Под бессонное утро — время сломалось, и теперь приходится существовать в двух измерениях, ощущая себя и там и тут непрошеным гостем, её колыбельную подхватывают сверчки, а следом — проснувшиеся птицы, и к рассвету, сменив тональность, она преображается в многоголосую песнь любви, в благовесть о новом дне — ясном и чистом, словно божий замысел, словно младенческий смех, словно снежная вода горного родника.
Город Ангелов — это люди, которые опекают меня в этом прекрасном, нестрашном, совсем не Кэрроловском зазеркалье. Сейчас мы немного поедим, говорит Анна, накрывая к завтраку практически новогодний стол, а на моё недоумение машет рукой — в Америке принято завтракать щедро и обильно. На второй день у нас занятие йогой и прогулка вверх по Маунтайн стрит, город непривычно тих, воздух наполнен ароматом увялых цветов, таким терпким и сладким, что кружится голова. Но в этой перезрелой и всё ещё цветущей красоте столько безграничного отчаяния, что хочется остановить время и отмерить всем, кто цепляется за жизнь, ещё много жизней. Конечность понятие до того относительное, что его легко можно обратить в вечность, решаем мы с Анной. И тут же, будто для того, чтобы сбить пафос, идущий далеко впереди мужчина с чувством и со страстью, громогласно и решительно чихает.
— Чихнул по-армянски, — констатирует Анна.
В Городе Ангелов каждый третий чих звучит по-армянски.
Потом будет подаренный Ирой океан. Крикливые наглые чайки, учуяв приближение заката, все как одна усаживаются на влажной кромке берега, и, вытянув шеи, наблюдают уход солнца. Одна из них, оставляя на песке тонкую цепочку следов, семенит к нам, и, застывши совсем рядом, тяжко вздыхает — какая может быть вечность, когда такие печальные дела! Главное верить, говорю ей я. Главное верить, подтверждает Ира. Чайка пожимает плечом, не соглашаясь с нами, но и не улетает, и мы с Ирой решаем, что имя ей — Джонатан Ливингстон. Проводив солнце, мы расходимся-разлетаемся навсегда. "Постарайтесь познать, что такое любовь!" — кричит Ира чайке. Потом она ведёт меня ужинать, а попутно, чтоб не расслаблялась, заставляет играть в классики во дворе пляжного ресторанчика.
— Даааа, фиговый из тебя писатель. Ни мозгов, ни пластики, — заключит она, наблюдая, как я неловко прыгаю по квадратикам.
Я принимаюсь ей ныть, что скоро выступать, а я боюсь так, словно в первый раз.
— Не бойся, люди в курсе, на кого идут, — успокаивает меня Ира, и весь ужин рассказывает интересное о себе:
— Есть у меня бойфренд, наш, из Еревана. Артак называется.
— Очень люблю аудиокниги. Особенно хорошо засыпаю под Коэльо.
(Окинув довольным взглядом высоченные пальмы):
— Ммммм, пальмы... Как мало от них пользы!
Я смеюсь, с облегчением ощущая, как отступают скованность и напряжение. В Городе Ангелов живут люди, с которыми хорошо смеяться.
Вечером звонит однокурсница Карине.
— Что будешь завтра: толму или шашлык? — спрашивает она.
— В смысле?
— В смысле завтра ты приходишь ко мне в гости. Что будешь — шашлык или толму?
— А отказаться от еды я могу?
— Отказаться можешь. Но есть всё равно придётся. Так что выбирай!
Выбрала шашлык. В итоге пришлось заедать его толмой, тремя разными салатами, хачапури, эклерами и тортом "Наполеон". И запивать тутовкой, настоящей, домашней.
Теперь можно не сомневаться — в Городе Ангелов действительно есть всё.
В мои студенческие годы из Берда в Ереван можно было добраться только на автобусе. Ехал он долго, семь часов. Однажды мне досталось место рядом с древней старушкой. На первом же ухабе, в которой Икарус угодил, она сердито запричитала:
— Вай, Варсик, эс инч как керар!*
Так продолжалось до городского автовокзала. Каждую колдобину, каждый резкий поворот горного серпантина, каждое не слишком на её взгляд плавное торможение старушка сопровождала, наращивая децибелы, душераздирающим "Вай, Варсик, эс инч как керар!" Повторила она эту фразу раз пятьсот — качество дорог в девяностые было ужасающим.
Примерно так я и собиралась в Америку, неустанно себя ругая (зачем ты в эту историю ввязалась, кому оно было нужно, лучше бы осталась дома и работала над новой рукописью!)
Но Город Ангелов встретил меня так, словно долго ждал, и вот, наконец, дождался. Спасибо девочкам, так здорово поддержавшим меня. Теперь я не сомневаюсь — встреча с читателями пройдёт замечательно.
— Если и провалишься, бить будем недолго и не очень больно, — обещала Ира.
В Городе Ангелов живут такие же как я ненормальные люди. Теперь я это знаю наверняка.
.
*Вай, Варсик, что за какашку ты съела!
И про встречу, если кому-то захочется повидаться:
Среда, 13 сентября, Лос Анджелес,
Lark Musical Society Inc, 543 Arden Avenue, Glendale, USA
Wednesday, September 13, 2017, 07:00 PM
Справки: 818-731-0048, Анна
Билеты: http://www.eventbee.com/v/narineabgaryan
Под бессонное утро — время сломалось, и теперь приходится существовать в двух измерениях, ощущая себя и там и тут непрошеным гостем, её колыбельную подхватывают сверчки, а следом — проснувшиеся птицы, и к рассвету, сменив тональность, она преображается в многоголосую песнь любви, в благовесть о новом дне — ясном и чистом, словно божий замысел, словно младенческий смех, словно снежная вода горного родника.
Город Ангелов — это люди, которые опекают меня в этом прекрасном, нестрашном, совсем не Кэрроловском зазеркалье. Сейчас мы немного поедим, говорит Анна, накрывая к завтраку практически новогодний стол, а на моё недоумение машет рукой — в Америке принято завтракать щедро и обильно. На второй день у нас занятие йогой и прогулка вверх по Маунтайн стрит, город непривычно тих, воздух наполнен ароматом увялых цветов, таким терпким и сладким, что кружится голова. Но в этой перезрелой и всё ещё цветущей красоте столько безграничного отчаяния, что хочется остановить время и отмерить всем, кто цепляется за жизнь, ещё много жизней. Конечность понятие до того относительное, что его легко можно обратить в вечность, решаем мы с Анной. И тут же, будто для того, чтобы сбить пафос, идущий далеко впереди мужчина с чувством и со страстью, громогласно и решительно чихает.
— Чихнул по-армянски, — констатирует Анна.
В Городе Ангелов каждый третий чих звучит по-армянски.
Потом будет подаренный Ирой океан. Крикливые наглые чайки, учуяв приближение заката, все как одна усаживаются на влажной кромке берега, и, вытянув шеи, наблюдают уход солнца. Одна из них, оставляя на песке тонкую цепочку следов, семенит к нам, и, застывши совсем рядом, тяжко вздыхает — какая может быть вечность, когда такие печальные дела! Главное верить, говорю ей я. Главное верить, подтверждает Ира. Чайка пожимает плечом, не соглашаясь с нами, но и не улетает, и мы с Ирой решаем, что имя ей — Джонатан Ливингстон. Проводив солнце, мы расходимся-разлетаемся навсегда. "Постарайтесь познать, что такое любовь!" — кричит Ира чайке. Потом она ведёт меня ужинать, а попутно, чтоб не расслаблялась, заставляет играть в классики во дворе пляжного ресторанчика.
— Даааа, фиговый из тебя писатель. Ни мозгов, ни пластики, — заключит она, наблюдая, как я неловко прыгаю по квадратикам.
Я принимаюсь ей ныть, что скоро выступать, а я боюсь так, словно в первый раз.
— Не бойся, люди в курсе, на кого идут, — успокаивает меня Ира, и весь ужин рассказывает интересное о себе:
— Есть у меня бойфренд, наш, из Еревана. Артак называется.
— Очень люблю аудиокниги. Особенно хорошо засыпаю под Коэльо.
(Окинув довольным взглядом высоченные пальмы):
— Ммммм, пальмы... Как мало от них пользы!
Я смеюсь, с облегчением ощущая, как отступают скованность и напряжение. В Городе Ангелов живут люди, с которыми хорошо смеяться.
Вечером звонит однокурсница Карине.
— Что будешь завтра: толму или шашлык? — спрашивает она.
— В смысле?
— В смысле завтра ты приходишь ко мне в гости. Что будешь — шашлык или толму?
— А отказаться от еды я могу?
— Отказаться можешь. Но есть всё равно придётся. Так что выбирай!
Выбрала шашлык. В итоге пришлось заедать его толмой, тремя разными салатами, хачапури, эклерами и тортом "Наполеон". И запивать тутовкой, настоящей, домашней.
Теперь можно не сомневаться — в Городе Ангелов действительно есть всё.
В мои студенческие годы из Берда в Ереван можно было добраться только на автобусе. Ехал он долго, семь часов. Однажды мне досталось место рядом с древней старушкой. На первом же ухабе, в которой Икарус угодил, она сердито запричитала:
— Вай, Варсик, эс инч как керар!*
Так продолжалось до городского автовокзала. Каждую колдобину, каждый резкий поворот горного серпантина, каждое не слишком на её взгляд плавное торможение старушка сопровождала, наращивая децибелы, душераздирающим "Вай, Варсик, эс инч как керар!" Повторила она эту фразу раз пятьсот — качество дорог в девяностые было ужасающим.
Примерно так я и собиралась в Америку, неустанно себя ругая (зачем ты в эту историю ввязалась, кому оно было нужно, лучше бы осталась дома и работала над новой рукописью!)
Но Город Ангелов встретил меня так, словно долго ждал, и вот, наконец, дождался. Спасибо девочкам, так здорово поддержавшим меня. Теперь я не сомневаюсь — встреча с читателями пройдёт замечательно.
— Если и провалишься, бить будем недолго и не очень больно, — обещала Ира.
В Городе Ангелов живут такие же как я ненормальные люди. Теперь я это знаю наверняка.
.
*Вай, Варсик, что за какашку ты съела!
И про встречу, если кому-то захочется повидаться:
Среда, 13 сентября, Лос Анджелес,
Lark Musical Society Inc, 543 Arden Avenue, Glendale, USA
Wednesday, September 13, 2017, 07:00 PM
Справки: 818-731-0048, Анна
Билеты: http://www.eventbee.com/v/narineabgaryan
Published on September 12, 2017 05:07
August 28, 2017
Кто-то скосил сухую траву, сгрёб её в дальний угол двора ...
Кто-то скосил сухую траву, сгрёб её в дальний угол двора и поджёг, запах едкий, горький, тленный. Городские морщатся, мне же не привыкать, я радуюсь ему, словно старому знакомому, дышу полной грудью. Подталкивая пустую баночку из-под монпансье, скачет по расчерченным мелом квадратикам одинокая мысль — скоро осень. Скоро. Осень.
Лето — время беспечное, легкомысленно-быстротечное, в лете столько радости, что кажется — его хватит на оставшуюся жизнь. Но на жестяных крышах гаражей раскинулись разноцветным листопадом вымытые ковры — жёлтые, синие, абрикосово-рубиновые. Скоро, совсем скоро осень.
На ужин медовый инжир, мягкий козий сыр, немного сухого вина под старое чёрно-белое кино, где влюблённый Богарт уедет за Хепбёрн в Париж. Наивный и прекрасный, канувший в лету мир, к которому если и возвращаться, то в Ереване — этот город удивительным образом умеет быть созвучным всему, что принято хранить в сердце и в душе. Этот город знает толк в настоящей красоте.
Завтра будет Алленовский "Манхэттен", прогулка по аллее платанов, долгое сидение на ступеньках Каскада, ветер и тишина. На синюю макушку библейской горы вновь задвинут облачный нимб, раскрасят закатным лиловым дома, запустят рапидную киносъёмку городских огней. Ничего не изнашивает человека так, как раскаяние, признается дорогой моему сердцу человек, и я вдруг пойму, что каждое расставание и есть повод для раскаяния. Повод вылинять, выцвести, облететь.
Ночь накинет на крыши домов вещаное покрывало небес, рассыплет звёздную мелочь, выпустит летучих мышей. В этом городе так мало необходимых мне людей. Без которых я — ополовиненный сосуд, высохшее русло реки, забытая марионетка театра теней. В этом городе так мало любимых людей! И разлука с каждым — вечность.
Лета стало мало, совсем на донышке, лета стало ровно столько, чтоб попрощаться и отпустить. Во дворе, гремя пустой банкой из-под монпансье, играет в классики жизнь.


Лето — время беспечное, легкомысленно-быстротечное, в лете столько радости, что кажется — его хватит на оставшуюся жизнь. Но на жестяных крышах гаражей раскинулись разноцветным листопадом вымытые ковры — жёлтые, синие, абрикосово-рубиновые. Скоро, совсем скоро осень.
На ужин медовый инжир, мягкий козий сыр, немного сухого вина под старое чёрно-белое кино, где влюблённый Богарт уедет за Хепбёрн в Париж. Наивный и прекрасный, канувший в лету мир, к которому если и возвращаться, то в Ереване — этот город удивительным образом умеет быть созвучным всему, что принято хранить в сердце и в душе. Этот город знает толк в настоящей красоте.
Завтра будет Алленовский "Манхэттен", прогулка по аллее платанов, долгое сидение на ступеньках Каскада, ветер и тишина. На синюю макушку библейской горы вновь задвинут облачный нимб, раскрасят закатным лиловым дома, запустят рапидную киносъёмку городских огней. Ничего не изнашивает человека так, как раскаяние, признается дорогой моему сердцу человек, и я вдруг пойму, что каждое расставание и есть повод для раскаяния. Повод вылинять, выцвести, облететь.
Ночь накинет на крыши домов вещаное покрывало небес, рассыплет звёздную мелочь, выпустит летучих мышей. В этом городе так мало необходимых мне людей. Без которых я — ополовиненный сосуд, высохшее русло реки, забытая марионетка театра теней. В этом городе так мало любимых людей! И разлука с каждым — вечность.
Лета стало мало, совсем на донышке, лета стало ровно столько, чтоб попрощаться и отпустить. Во дворе, гремя пустой банкой из-под монпансье, играет в классики жизнь.


Published on August 28, 2017 20:46
August 26, 2017
На углу Адонца продают молодые грецкие орехи — молочно-сл...
На углу Адонца продают молодые грецкие орехи — молочно-сладкие, масляные. Скорлупа распадается на половинки от лёгкого надавливания, оставляя на пальцах горьковатый вкус когда-то зелёной, а теперь потемневшей кожуры. Спрашиваю цену, сетую, что дорого, беру два килограмма. Продавец, чуть поразмыслив, возвращает мне монету в пятьсот драмов — сам знаю что дорого! Вы мне лучше орехами, — улыбаюсь я. Он отсыпает в пакет ещё немного — ешьте на здоровье!
Деревенский обед на скорую руку — вытащить из горбушки мякиш, затолкать туда щедрую горсть грецких орехов, слегка посолить, плотно прижать края, чтоб орехи не высыпались и есть, запивая горьким кофе. Если не дорос до кофе, тебе нальют кисленького алычового компота. Я давно уже доросла, потому завариваю кофе, не позволяя ему закипеть, чтобы не дать осесть густой золотистой пенке. Выковыриваю из горбушки матнакаша мякиш, заталкиваю туда орехи, присыпаю крупной солью. Ем. Если бы ещё тутовое дерево над головой и линялые лоскуты неба среди ветвей — было бы совсем счастье. Но за окном шумный город, уставший от таких как я.
Каждый раз, когда завариваю кофе, вспоминаю историю, рассказанную бабушкой Татой.
— Поженились с твоим дедом,— со смущённым смехом начинала она,— поехали в Ереван на три "медовых" дня. Сорок первый год, до войны несколько месяцев, но мы ничего этого не знаем, мы счастливы и влюблены, ходим по городу, рассматривая витрины магазинов, держаться за руки стесняемся — что люди о нас подумают! В бакалейной лавке на Абовяна впервые увидели кофейные зёрна — мелкие, с горох, тускло-салатовые. Спросить, что с ними делать, постеснялись, у продавца был весьма надменный вид. Попросили взвесить нам триста граммов, вернулись домой. Долго ломали голову, наконец залили холодной водой и поставили на керосинку. Понадеялись, что зёрна разварятся. К вечеру стало ясно, что они не разварятся никогда. Тогда твой дед предложил выпить хотя бы бульон. Выпили весь, невзирая на дичайшую горечь — было жалко потраченных денег. Три дня потом не спали, дед ужасно ругался, я хохотала. Уже после войны в Берд переехали репатрианты. Они нас и научили обжаривать до маслянистого блеска зёрна, ни в коем разе не пережаривая их, и заваривать правильный кофе. Раньше ведь у нас, у восточных армян, культуры потребления кофе не было. Мы, как оно принято было в Российской империи, пили чай из больших медных самоваров.
Репатрианты. Они появились сразу после войны. Французские, американские, бейрутские, итальянские, иранские армяне. На недолгие два года границы Советского союза открылись, а потом задвинулись навсегда, и те репатрианты, которые не успели выехать, остались заложниками в стране, уклад жизни которой приводил их в ужас. Я помню Элижбетту. Ей было под шестьдесят, когда я, семилетняя девочка, обратила на неё внимание. Она была бельгийской армянкой, вернулась на родину предков юной романтичной девушкой, не поставив в известность родителей, которые, естественно, никуда бы её не отпустили. Появление Элижбетты произвело настоящий фурор, ведь никто из бердцев не видел такой красоты: тоненькая, прочти прозрачная сероглазая брюнетка в облегающем фигуру платье, в шляпке с вуалью, в лисьей горжетке, в лаковых перчатках на пуговичках, застёгивающихся на запястье, в чулочках со стрелками, в ботиночках на изящном каблуке. Осознав, что её навсегда разлучили с родными, Элижбетта сошла с ума и прожила всю свою долгую несчастную жизнь в нашем забытом богом захолустье. Она считала, что преподаёт в музыкальной школе, и ходила туда каждый день, сидела в библиотеке до закрытия, листала нотные альбомы или же ухаживала за комнатными растениями. Со временем её шляпка выгорела от солнца, горжетку попортила моль, на чиненные-перечиненные ботиночки невозможно было смотреть без слёз, но носить другое она отказывалась. Мы, дети, называли её "дамой в обносках". Встретив на улице, почтительно расступались, давая пройти. Она рассеянно улыбалась и шла дальше, не прекращая бесконечного монолога, который, казалось, вела с собой даже во сне. Мы не прислушивались к её словам, не до того было, да и кто станет обращать внимание на бормотание сумасшедшей старухи, когда ночью прошёл ливень, и значит никогда не высыхающая миргородская лужа на Маштоца превратилась в океан, где теперь можно не только головастиков ловить, но и глушить карбид! Однажды нас за этим занятием застала Элижбетта. Она постояла на краю лужи, наблюдая за нами, платье висело на ней бесформенным мешком, горжетка отчаянно линяла, заколотая английской булавкой вуаль обветшала, превратившись в мёртвую паутину, мы, удивлённые её вниманием к нашему занятию, умолкли, и тогда, наконец, отчётливо услышали то, что мерным бесцветным голосом на протяжении своей одинокой сумасшедшей жизни изо дня в день повторяла Элижбетта: "Мама и папа, я здесь и люблю вас, мама и папа, я здесь — и люблю вас".
Время шло, мы взрослели, превращаясь из дураковатых детей в дураковатых подростков, дождливую весну сменяло лето, осеняя наши ночи ласковым сверчковым звоном, затем наступала осень, пахла в ноябре скорыми снегами, а Элижбетта всё так и ходила в музыкальную школу, где её сердобольно подкармливали, листала нотные тетради, поливала комнатные растения, и вела бесконечный разговор с давно уже умершими родителями, так и не дождавшимися свою единственную дочь из страны обманутых надежд.
Деревенский обед на скорую руку — вытащить из горбушки мякиш, затолкать туда щедрую горсть грецких орехов, слегка посолить, плотно прижать края, чтоб орехи не высыпались и есть, запивая горьким кофе. Если не дорос до кофе, тебе нальют кисленького алычового компота. Я давно уже доросла, потому завариваю кофе, не позволяя ему закипеть, чтобы не дать осесть густой золотистой пенке. Выковыриваю из горбушки матнакаша мякиш, заталкиваю туда орехи, присыпаю крупной солью. Ем. Если бы ещё тутовое дерево над головой и линялые лоскуты неба среди ветвей — было бы совсем счастье. Но за окном шумный город, уставший от таких как я.
Каждый раз, когда завариваю кофе, вспоминаю историю, рассказанную бабушкой Татой.
— Поженились с твоим дедом,— со смущённым смехом начинала она,— поехали в Ереван на три "медовых" дня. Сорок первый год, до войны несколько месяцев, но мы ничего этого не знаем, мы счастливы и влюблены, ходим по городу, рассматривая витрины магазинов, держаться за руки стесняемся — что люди о нас подумают! В бакалейной лавке на Абовяна впервые увидели кофейные зёрна — мелкие, с горох, тускло-салатовые. Спросить, что с ними делать, постеснялись, у продавца был весьма надменный вид. Попросили взвесить нам триста граммов, вернулись домой. Долго ломали голову, наконец залили холодной водой и поставили на керосинку. Понадеялись, что зёрна разварятся. К вечеру стало ясно, что они не разварятся никогда. Тогда твой дед предложил выпить хотя бы бульон. Выпили весь, невзирая на дичайшую горечь — было жалко потраченных денег. Три дня потом не спали, дед ужасно ругался, я хохотала. Уже после войны в Берд переехали репатрианты. Они нас и научили обжаривать до маслянистого блеска зёрна, ни в коем разе не пережаривая их, и заваривать правильный кофе. Раньше ведь у нас, у восточных армян, культуры потребления кофе не было. Мы, как оно принято было в Российской империи, пили чай из больших медных самоваров.
Репатрианты. Они появились сразу после войны. Французские, американские, бейрутские, итальянские, иранские армяне. На недолгие два года границы Советского союза открылись, а потом задвинулись навсегда, и те репатрианты, которые не успели выехать, остались заложниками в стране, уклад жизни которой приводил их в ужас. Я помню Элижбетту. Ей было под шестьдесят, когда я, семилетняя девочка, обратила на неё внимание. Она была бельгийской армянкой, вернулась на родину предков юной романтичной девушкой, не поставив в известность родителей, которые, естественно, никуда бы её не отпустили. Появление Элижбетты произвело настоящий фурор, ведь никто из бердцев не видел такой красоты: тоненькая, прочти прозрачная сероглазая брюнетка в облегающем фигуру платье, в шляпке с вуалью, в лисьей горжетке, в лаковых перчатках на пуговичках, застёгивающихся на запястье, в чулочках со стрелками, в ботиночках на изящном каблуке. Осознав, что её навсегда разлучили с родными, Элижбетта сошла с ума и прожила всю свою долгую несчастную жизнь в нашем забытом богом захолустье. Она считала, что преподаёт в музыкальной школе, и ходила туда каждый день, сидела в библиотеке до закрытия, листала нотные альбомы или же ухаживала за комнатными растениями. Со временем её шляпка выгорела от солнца, горжетку попортила моль, на чиненные-перечиненные ботиночки невозможно было смотреть без слёз, но носить другое она отказывалась. Мы, дети, называли её "дамой в обносках". Встретив на улице, почтительно расступались, давая пройти. Она рассеянно улыбалась и шла дальше, не прекращая бесконечного монолога, который, казалось, вела с собой даже во сне. Мы не прислушивались к её словам, не до того было, да и кто станет обращать внимание на бормотание сумасшедшей старухи, когда ночью прошёл ливень, и значит никогда не высыхающая миргородская лужа на Маштоца превратилась в океан, где теперь можно не только головастиков ловить, но и глушить карбид! Однажды нас за этим занятием застала Элижбетта. Она постояла на краю лужи, наблюдая за нами, платье висело на ней бесформенным мешком, горжетка отчаянно линяла, заколотая английской булавкой вуаль обветшала, превратившись в мёртвую паутину, мы, удивлённые её вниманием к нашему занятию, умолкли, и тогда, наконец, отчётливо услышали то, что мерным бесцветным голосом на протяжении своей одинокой сумасшедшей жизни изо дня в день повторяла Элижбетта: "Мама и папа, я здесь и люблю вас, мама и папа, я здесь — и люблю вас".
Время шло, мы взрослели, превращаясь из дураковатых детей в дураковатых подростков, дождливую весну сменяло лето, осеняя наши ночи ласковым сверчковым звоном, затем наступала осень, пахла в ноябре скорыми снегами, а Элижбетта всё так и ходила в музыкальную школу, где её сердобольно подкармливали, листала нотные тетради, поливала комнатные растения, и вела бесконечный разговор с давно уже умершими родителями, так и не дождавшимися свою единственную дочь из страны обманутых надежд.
Published on August 26, 2017 01:38
August 22, 2017
Я боюсь даже представить, как ты живёшь без города своего...
Я боюсь даже представить, как ты живёшь без города своего детства, мама. Каково это — навсегда остаться без дома, где ты родилась и выросла, где всё, буквально всё помнит тебя маленькую, в платьице, перекроенном из бабулиного чесучового весеннего пальто, смешную и остроскулую, с тонкими косичками, с испачканными чернилами пальцами, которыми ты осторожно, не дыша, приоткрываешь треугольную коробочку пудры "Лебяжий пух". Я хожу по Еревану, любуюсь тем малым, что ещё оставили нам, помнящим родства, на Мамиконянца стоят платаны ростом с небо, облетают шершавой корой, ступаешь по ней, как по осенней листвяной шелухе, стволы деревьев нежно-молочные, ранимые, проходя мимо, я прикасаюсь к ним ладонью, я хожу, словно фигура по шахматной доске, которой можно ступать так, и нельзя — так, я сворачиваю за углы и заглядываю во дворы, ловя блики закатного солнца в деревянных оконных рамах, я ищу тот Кировабад, которого мы с тобой уже никогда не увидим, мама, но если идти вниз по Мамиконянца, ты узнаешь его, город своего детства, он отражается в окнах закатным небом, он дышит в лицо жарким и сухим, нехотя остывающим к вечеру ветром, на перекрёстках, где стоят павильончики с фруктами, он пахнет медовыми персиками, помнишь, мама, как пахли персики на кировабадском рынке, амброзией и нектаром, ай хала, звала круглолицая торговка, ай гёзал эрмени, гял бура! И церковь Мец Жам, мама, и белые кресты на армянском кладбище, разрушенном до основания, стёртом с лица земли так, словно никогда там никого из наших и не было, но мы никого там и не оставили, мама, всех наших мы забрали с собой, и твой Кировабад, мама, он ведь тоже с нами, он выбегает из застланного чинарной скорлупой ереванского дворика рыжим бездомным котом и радуется тому, что я его наконец нашла. Помню, да, мама. Помню город твоего детства, помню — и люблю.














Published on August 22, 2017 23:35
August 17, 2017
Признание бердца дорогого стоит. Мало кто, естественно, д...
Признание бердца дорогого стоит. Мало кто, естественно, держал в руках мои книги, но каждый лично знает человека, который их читал. Весной по телевидению показали передачу со мной, и кажется, ни один мой земляк её не пропустил. Теперь при встрече всякий норовит об этом рассказать. Притом делает это в весьма своеобразной манере:
— Наринэ джан, чиню значит калитку (точу топор, чищу курятник, крашу забор, убиваю соседа) и тут моя жена выскакивает из дому и орёт как оглашённая — Варужан (Мамикон, Ово, Апавен, etc), по телевизору показывают старшую дочь Абгаряна Юрика!
Что примечательно, рассказ на этом заканчивается. Земляк уходит, неся подмышкой цесарку. Чтобы унять беспардонный клёкот, ей аптечной резинкой замотали клюв. Но бердская цесарка тоже упрямый ишак, потому никакая аптечная резинка ей не указ. Она вертит слегка всклокоченной (давно не делала укладку) головой, с любопытством разглядывая витрины магазинов и комментирует сквозь зажатый клюв выставленный в витринах товар. Что тут скажешь: какой автор, такие земляки с цесарками.
Кстати, об укладке. Двоюродная сестра Лилит рассказывает. Однажды, говорит, к нам в парикмахерскую заглянула женщина и извиняющимся тоном спросила:
— Из деревни клиентов принимаете?
И ещё от Лилит, трогательное.
— Некоторые женщины взбираются в кресло для мытья головы коленями и нагибаются над раковиной. Так, говорят, вам легче будет работать. Порой убедить их сесть — непосильная задача.
— И что ты тогда делаешь?
— Куда деваться, мою так.
Ну и, раз разговор пошёл о красоте. Мама, об очередном визите туристов:
— На кухне засорилась труба. Вонь соответствующая, кругом грязь, воды натекло целая лужа, я пытаюсь как-то справиться со стихийным бедствием. И тут приходят почитатели твоих книг. Хорошо, что я хоть накрашенная была!
За последние четверть века Берд превратился в военный городок. В каждом доме квартируются офицерские семьи. Изнеженные городские, попав в нашу непринуждённую обстановку, сначала впадают в ступор. Но спустя какую-то неделю их от аборигенов уже не отличишь: дети прямо с куста едят обработанный медным купоросом виноград, мужчины предпочитают воде тутовку, а женщины отмахиваются от растительного масла как от скверны — отныне и во веки веков они будут готовить на местном топлёном.
Но среди приезжих иногда попадаются очень упрямые экземпляры, которых местным ЗОЖ не проймёшь.
Живёт, например, в Берде один офицер. Два раза в день — утром и вечером, он выходит на пробежку. Берд принимает в его беге живое участие: проезжающие мимо машины притормаживают, чтоб предложить подвезти, а каждый, буквально каждый прохожий считает своим долгом остановить его и полюбопытствовать, что у него стряслось. Потому что нормальный бердец побежит только в том случае, если, например, в него вот-вот ударит молния. И то не факт.
О Бердском ЗОЖе. Одноклассник Овик:
— Решил похудеть, занимаюсь с тренером.
Я, уважительно рассматривая его крупную, не испорченную рельефной мускулатурой фигуру:
— Какие упражнения делаете?
— Какие ему диктую, такие и делаем!
И ещё, снова Овик.
— Сходил на УЗИ. Сразу предупредил врача, чтоб картинку с увеличенной печенью оставил себе. Дай мне, говорю, картинку с нормальной печенью.
— А он?
— Смотрит как дурак, даже не смеётся. Сразу видно — не из наших!
Берд — это в первую очередь родители. 48 лет семейной жизни. Война и мир, любовь и птеродактили. Отношения — приближённые к боевым. Мама пилит, папа огрызается. Папа любит, мама отлынивает. Мама сажает пионы, папа — кукурузу. На соседних грядках. Тут кукуруза, там пионы, дальше огурцы, и сразу же — гибискус. Над земельным участком стоит огромное ореховое дерево. Папа решил спилить некоторые ветви, чтобы было больше солнечного света. Ничтоже сумняшеся отпилил все ветви на нашей стороне. Теперь орех плодоносит на соседский участок, зато папа за ним преданно ухаживает и поливает. Мама хватается за голову и называет его "этот человек". Папа отвечает своим коронным "кировабадци"! Мы с Сонечкой то плачем, то смеёмся.
— Посадил в этом году два мешка картошки, — в предвкушении бешеного урожая хвастает папа.
Мама, флегматично:
— Будет как в прошлом году: посадил два мешка картошки, собрал ведро колорадского жука!
Папа вдумчиво и завороженно разглядывает лежащий на краю огорода большой плоский валун.
— Чего ты там увидел? — любопытствую я.
Он, стряхнув наваждение и с опаской отходя в сторону:
— Армянина нельзя оставлять один на один с камнем, иначе пока не выбьет на нём хачкар, не успокоится.
Собираемся на пикник. Мама убеждает папу переодеться в другую рубашку.
Папа, дымясь ушами — терпеть не может переодеваться:
— Ай кник, чем тебя эта рубашка не устраивает?
Мама выдвигает железобетонный аргумент:
— В той ты выглядишь моложе!
Папа, ворча, надевает жёлтую рубашку. Теперь он похож на побитого невзгодами доисторического цыплёнка. Но его мало волнует внешний вид, он недоволен торчащим колом воротом рубашки.
— Ай кник, посмотри, какие воротники!
— Не воротники, а ворот! — мама тщетно пытается придать рубашке надлежащий вид.
— Это у тебя ворот. А у меня воротники, целых два: справа и слева! И оба идиотские!
Августовский Берд нежен и задумчив: низкое и густое небо — черпать-не исчерпать, мерцание звёзд — к концу лета оно робкое и смиренное — за порогом холода, спящая по обочинам пыльной деревенской дороги мальва, бормочущая сквозь дрёму река.
С выходом луны заводит печальную песнь неведомая нам птица — плюууу, плюууу, плюуу.
Спрашиваем у папы, кто она. Он на секунду отрывается от книги.
— Какая птица?
— Вон та, печальная.
— Мы её так и называем — печальная птица.
Спустя час кропотливого поиска, во время которого Сонечка демонстрирует высший пилотаж по формулированию идиотских вопросов поисковику (ночная птица, которая грустно зовёт; птица, которая говорит плюуу-плюуу; сова или филин, кричащие с частотой бьющих часов; печальная и грустная ночная кукушка — и здесь гугл сдаётся и выдаёт правильный ответ), мы наконец вычисляем её: сова-сплюшка. Но сразу же решаем, что самое верное ей определение — печальная птица, потому что ее отчаянный зов и есть воплощение того всеобъемлющего ощущения сиротства, которым накрывает нас каждый раз, когда мы уезжаем из Берда.
Мы родом из города печальных птиц. Все мы родом из городов печальных птиц. Мы уезжаем, а они ждут и зовут нас — плюуууу, плюууу. Вспомнить — радость. Услышать — счастье. Вернуться — благословение.
— Наринэ джан, чиню значит калитку (точу топор, чищу курятник, крашу забор, убиваю соседа) и тут моя жена выскакивает из дому и орёт как оглашённая — Варужан (Мамикон, Ово, Апавен, etc), по телевизору показывают старшую дочь Абгаряна Юрика!
Что примечательно, рассказ на этом заканчивается. Земляк уходит, неся подмышкой цесарку. Чтобы унять беспардонный клёкот, ей аптечной резинкой замотали клюв. Но бердская цесарка тоже упрямый ишак, потому никакая аптечная резинка ей не указ. Она вертит слегка всклокоченной (давно не делала укладку) головой, с любопытством разглядывая витрины магазинов и комментирует сквозь зажатый клюв выставленный в витринах товар. Что тут скажешь: какой автор, такие земляки с цесарками.
Кстати, об укладке. Двоюродная сестра Лилит рассказывает. Однажды, говорит, к нам в парикмахерскую заглянула женщина и извиняющимся тоном спросила:
— Из деревни клиентов принимаете?
И ещё от Лилит, трогательное.
— Некоторые женщины взбираются в кресло для мытья головы коленями и нагибаются над раковиной. Так, говорят, вам легче будет работать. Порой убедить их сесть — непосильная задача.
— И что ты тогда делаешь?
— Куда деваться, мою так.
Ну и, раз разговор пошёл о красоте. Мама, об очередном визите туристов:
— На кухне засорилась труба. Вонь соответствующая, кругом грязь, воды натекло целая лужа, я пытаюсь как-то справиться со стихийным бедствием. И тут приходят почитатели твоих книг. Хорошо, что я хоть накрашенная была!
За последние четверть века Берд превратился в военный городок. В каждом доме квартируются офицерские семьи. Изнеженные городские, попав в нашу непринуждённую обстановку, сначала впадают в ступор. Но спустя какую-то неделю их от аборигенов уже не отличишь: дети прямо с куста едят обработанный медным купоросом виноград, мужчины предпочитают воде тутовку, а женщины отмахиваются от растительного масла как от скверны — отныне и во веки веков они будут готовить на местном топлёном.
Но среди приезжих иногда попадаются очень упрямые экземпляры, которых местным ЗОЖ не проймёшь.
Живёт, например, в Берде один офицер. Два раза в день — утром и вечером, он выходит на пробежку. Берд принимает в его беге живое участие: проезжающие мимо машины притормаживают, чтоб предложить подвезти, а каждый, буквально каждый прохожий считает своим долгом остановить его и полюбопытствовать, что у него стряслось. Потому что нормальный бердец побежит только в том случае, если, например, в него вот-вот ударит молния. И то не факт.
О Бердском ЗОЖе. Одноклассник Овик:
— Решил похудеть, занимаюсь с тренером.
Я, уважительно рассматривая его крупную, не испорченную рельефной мускулатурой фигуру:
— Какие упражнения делаете?
— Какие ему диктую, такие и делаем!
И ещё, снова Овик.
— Сходил на УЗИ. Сразу предупредил врача, чтоб картинку с увеличенной печенью оставил себе. Дай мне, говорю, картинку с нормальной печенью.
— А он?
— Смотрит как дурак, даже не смеётся. Сразу видно — не из наших!
Берд — это в первую очередь родители. 48 лет семейной жизни. Война и мир, любовь и птеродактили. Отношения — приближённые к боевым. Мама пилит, папа огрызается. Папа любит, мама отлынивает. Мама сажает пионы, папа — кукурузу. На соседних грядках. Тут кукуруза, там пионы, дальше огурцы, и сразу же — гибискус. Над земельным участком стоит огромное ореховое дерево. Папа решил спилить некоторые ветви, чтобы было больше солнечного света. Ничтоже сумняшеся отпилил все ветви на нашей стороне. Теперь орех плодоносит на соседский участок, зато папа за ним преданно ухаживает и поливает. Мама хватается за голову и называет его "этот человек". Папа отвечает своим коронным "кировабадци"! Мы с Сонечкой то плачем, то смеёмся.
— Посадил в этом году два мешка картошки, — в предвкушении бешеного урожая хвастает папа.
Мама, флегматично:
— Будет как в прошлом году: посадил два мешка картошки, собрал ведро колорадского жука!
Папа вдумчиво и завороженно разглядывает лежащий на краю огорода большой плоский валун.
— Чего ты там увидел? — любопытствую я.
Он, стряхнув наваждение и с опаской отходя в сторону:
— Армянина нельзя оставлять один на один с камнем, иначе пока не выбьет на нём хачкар, не успокоится.
Собираемся на пикник. Мама убеждает папу переодеться в другую рубашку.
Папа, дымясь ушами — терпеть не может переодеваться:
— Ай кник, чем тебя эта рубашка не устраивает?
Мама выдвигает железобетонный аргумент:
— В той ты выглядишь моложе!
Папа, ворча, надевает жёлтую рубашку. Теперь он похож на побитого невзгодами доисторического цыплёнка. Но его мало волнует внешний вид, он недоволен торчащим колом воротом рубашки.
— Ай кник, посмотри, какие воротники!
— Не воротники, а ворот! — мама тщетно пытается придать рубашке надлежащий вид.
— Это у тебя ворот. А у меня воротники, целых два: справа и слева! И оба идиотские!
Августовский Берд нежен и задумчив: низкое и густое небо — черпать-не исчерпать, мерцание звёзд — к концу лета оно робкое и смиренное — за порогом холода, спящая по обочинам пыльной деревенской дороги мальва, бормочущая сквозь дрёму река.
С выходом луны заводит печальную песнь неведомая нам птица — плюууу, плюууу, плюуу.
Спрашиваем у папы, кто она. Он на секунду отрывается от книги.
— Какая птица?
— Вон та, печальная.
— Мы её так и называем — печальная птица.
Спустя час кропотливого поиска, во время которого Сонечка демонстрирует высший пилотаж по формулированию идиотских вопросов поисковику (ночная птица, которая грустно зовёт; птица, которая говорит плюуу-плюуу; сова или филин, кричащие с частотой бьющих часов; печальная и грустная ночная кукушка — и здесь гугл сдаётся и выдаёт правильный ответ), мы наконец вычисляем её: сова-сплюшка. Но сразу же решаем, что самое верное ей определение — печальная птица, потому что ее отчаянный зов и есть воплощение того всеобъемлющего ощущения сиротства, которым накрывает нас каждый раз, когда мы уезжаем из Берда.
Мы родом из города печальных птиц. Все мы родом из городов печальных птиц. Мы уезжаем, а они ждут и зовут нас — плюуууу, плюууу. Вспомнить — радость. Услышать — счастье. Вернуться — благословение.
Published on August 17, 2017 23:53
August 2, 2017
Гата
Мама испекла гату, свою, фирменную, она пахнет летом, солнцем, горным ветром.
— По традиционному рецепту, — предвосхищает мой вопрос она.
— Почему твоя гата получается в десять раз вкуснее моей?!
— Потому что качество продуктов другое. Сметана и мацун свежайшие, из настоящего молока. А масло цветочное, и я его сама топила.
Цветочное масло. Оно бывает в июне-июле, когда в горах поспевает земляника и распускаются цветы. Коровы тогда доятся сливками, а масло получается таким, что всякое другое кажется насмешкой. Если у счастья и есть вкус, то это вкус цветочного масла.
Помню, как Тата кормила нас на скорую руку: разрежет вдоль целый каравай свежевыпеченного хлеба, вынет дымящуюся мякоть, обмажет изнутри янтарно-жёлтым цветочным маслом, накрошит солёной брынзы, распределит внушительный пучок всякого разнотравья — тархун, кресс-салат, базилик, кинза, придавит хрустящей корочкой, продержит буквально чуть — за эти несколько секунд масло и сыр растопятся, а зелень пустит сок. Тата рвёт каравай руками и раздаёт нам. Мы карабкаемся на тутовое дерево, усаживаемся шумной воробьиной стаей на шершавую ветвь, жадно жуём, болтаем ногами и наблюдаем, как далеко внизу взрослые чистят грецкие орехи на варенье.
Пока мы с сестрой поглощаем гату, запивая её крепкозаваренным кофе, мама листает свой блокнот с рецептами.
— Вот бы испечь тот кркени, что твоя бабушка Тата пекла, — говорит она.
— Так давай!
— Куда нам!
— Секрет в тесте?
— Никакого секрета в тесте нет: немного молока, сепарированная сметана, соль на кончике ножа, сахар и столько муки, чтоб получилось мягкое тесто. Месить тщательно и долго.
— Вот и давай испечём.
— Не справимся. Кркени в золе пекут. Закапывают живьём круг теста в горячую золу, через положенное время выкапывают. Снаружи получается твёрдая корочка, а внутри — нежнейшая, тающая во рту мякоть.
— Мама!
— Захрмар вам. Сначала спрашиваете, потом возмущаетесь!
Мы с Сонечкой хохочем и щуримся на августовское солнце.
Наверное, рецепт гаты оставлять бессмысленно, но я всё-таки рискну, вдруг вам повезёт больше, чем мне.
Итак, ранним летним утром собираетесь в Тавушские горы. В Арменасаре спрашиваете Варинку — у той самые строптивые и бодливые, но дающие потрясающе вкусное молоко коровы. Покупаете у Варинки полкилограмма цветочного масла, 250 граммов мацуна и 250 граммов сметаны.
По дороге домой собираете большой букет антарамов — они будут пахнуть на весь дом раскалённым горным склоном и вечерней росой.
Первым делом берётесь за тесто: рубите в 3 стаканах муки 250 граммов цветочного масла (предварительно муку нужно просеять и смешать с разрыхлителем, никакой соды, мама категорически не приемлет её вкус), добавляете сметану, мацун и щепотку соли. Замешиваете мягкое тесто (месите совсем недолго), накрываете, отставляете в сторону.
Начинка: 3 стакана муки перемешиваете с 2 стаканами сахара, добавляете щепоть крупной соли (она потом будет ощущаться крупинками на языке) и 250 граммов масла, перетираете руками в лёгкую рассыпчатую массу. Если взять её в горсть, она должна собираться в ком. Ваниль в начинку не кладёте, она перебивает вкус цветочного масла.
(Мама делает гату не на сливочном, а на топлёном масле, но этому нужно научиться. Если вдруг решитесь — кладите его что в тесто, что в начинку примерно по 150-170 граммов, иначе выпечка получится чересчур жирной. Но первопроходцам лучше не рисковать и готовить на сливочном).
Далее всё просто: разделяете тесто на четыре части, каждую часть тонко раскатываете, распределяете по ней начинку, скатываете в рулет, мягко «притаптываете» его руками, нарезаете специальным ножом для гаты ромбиками или треугольниками, густо смазываете взбитым желтком, выпекаете при температуре 180 градусов до ломкой румяной корочки.
Едите, постигая тайну бессмертия.
P.S. Когда я писала этот текст, папа с Сонечкой резались в дурака (папа проигрывал), мама читала Бунина, костёр смиренно догорал, кругом шумел первозданный лес, высились горы, а на макушку той, что была напротив, уселось, подобрав длинную юбку, круглолицее облако в платке, повязанном на манер карабахских бабушек, и подперев щеку ладонью, с улыбкой за нами наблюдало.

— По традиционному рецепту, — предвосхищает мой вопрос она.
— Почему твоя гата получается в десять раз вкуснее моей?!
— Потому что качество продуктов другое. Сметана и мацун свежайшие, из настоящего молока. А масло цветочное, и я его сама топила.
Цветочное масло. Оно бывает в июне-июле, когда в горах поспевает земляника и распускаются цветы. Коровы тогда доятся сливками, а масло получается таким, что всякое другое кажется насмешкой. Если у счастья и есть вкус, то это вкус цветочного масла.
Помню, как Тата кормила нас на скорую руку: разрежет вдоль целый каравай свежевыпеченного хлеба, вынет дымящуюся мякоть, обмажет изнутри янтарно-жёлтым цветочным маслом, накрошит солёной брынзы, распределит внушительный пучок всякого разнотравья — тархун, кресс-салат, базилик, кинза, придавит хрустящей корочкой, продержит буквально чуть — за эти несколько секунд масло и сыр растопятся, а зелень пустит сок. Тата рвёт каравай руками и раздаёт нам. Мы карабкаемся на тутовое дерево, усаживаемся шумной воробьиной стаей на шершавую ветвь, жадно жуём, болтаем ногами и наблюдаем, как далеко внизу взрослые чистят грецкие орехи на варенье.
Пока мы с сестрой поглощаем гату, запивая её крепкозаваренным кофе, мама листает свой блокнот с рецептами.
— Вот бы испечь тот кркени, что твоя бабушка Тата пекла, — говорит она.
— Так давай!
— Куда нам!
— Секрет в тесте?
— Никакого секрета в тесте нет: немного молока, сепарированная сметана, соль на кончике ножа, сахар и столько муки, чтоб получилось мягкое тесто. Месить тщательно и долго.
— Вот и давай испечём.
— Не справимся. Кркени в золе пекут. Закапывают живьём круг теста в горячую золу, через положенное время выкапывают. Снаружи получается твёрдая корочка, а внутри — нежнейшая, тающая во рту мякоть.
— Мама!
— Захрмар вам. Сначала спрашиваете, потом возмущаетесь!
Мы с Сонечкой хохочем и щуримся на августовское солнце.
Наверное, рецепт гаты оставлять бессмысленно, но я всё-таки рискну, вдруг вам повезёт больше, чем мне.
Итак, ранним летним утром собираетесь в Тавушские горы. В Арменасаре спрашиваете Варинку — у той самые строптивые и бодливые, но дающие потрясающе вкусное молоко коровы. Покупаете у Варинки полкилограмма цветочного масла, 250 граммов мацуна и 250 граммов сметаны.
По дороге домой собираете большой букет антарамов — они будут пахнуть на весь дом раскалённым горным склоном и вечерней росой.
Первым делом берётесь за тесто: рубите в 3 стаканах муки 250 граммов цветочного масла (предварительно муку нужно просеять и смешать с разрыхлителем, никакой соды, мама категорически не приемлет её вкус), добавляете сметану, мацун и щепотку соли. Замешиваете мягкое тесто (месите совсем недолго), накрываете, отставляете в сторону.
Начинка: 3 стакана муки перемешиваете с 2 стаканами сахара, добавляете щепоть крупной соли (она потом будет ощущаться крупинками на языке) и 250 граммов масла, перетираете руками в лёгкую рассыпчатую массу. Если взять её в горсть, она должна собираться в ком. Ваниль в начинку не кладёте, она перебивает вкус цветочного масла.
(Мама делает гату не на сливочном, а на топлёном масле, но этому нужно научиться. Если вдруг решитесь — кладите его что в тесто, что в начинку примерно по 150-170 граммов, иначе выпечка получится чересчур жирной. Но первопроходцам лучше не рисковать и готовить на сливочном).
Далее всё просто: разделяете тесто на четыре части, каждую часть тонко раскатываете, распределяете по ней начинку, скатываете в рулет, мягко «притаптываете» его руками, нарезаете специальным ножом для гаты ромбиками или треугольниками, густо смазываете взбитым желтком, выпекаете при температуре 180 градусов до ломкой румяной корочки.
Едите, постигая тайну бессмертия.
P.S. Когда я писала этот текст, папа с Сонечкой резались в дурака (папа проигрывал), мама читала Бунина, костёр смиренно догорал, кругом шумел первозданный лес, высились горы, а на макушку той, что была напротив, уселось, подобрав длинную юбку, круглолицее облако в платке, повязанном на манер карабахских бабушек, и подперев щеку ладонью, с улыбкой за нами наблюдало.

Published on August 02, 2017 13:10
July 14, 2017
В Сеул мы вылетали в день, когда в Европе бушевал ураган....
В Сеул мы вылетали в день, когда в Европе бушевал ураган. Из-за этого задерживались многие совмещённые рейсы, задержали и наш — на четыре с половиной часа. За время ожидания мы с сыном успели многое: излазить терминал «D» Шереметьевского аэропорта вдоль и поперёк, поужинать в одном месте, выпить кофе — в другом, поглазеть на все витрины, но ничего так и не купить — зачем что-то брать, когда впереди загадочная и прекрасная Южная Корея! Угомонившись, мы даже успели поработать: я редактировала рассказ, Эмиль корпел над курсовой. Рядом на надувных матрасах дремали утомлённые ожиданием иностранцы. Вдруг у одного из них зазвонил телефон. «Раветы арден ынди дэм лил»! — спросонья пробормотал он, а потом, спохватившись, перешёл на английский. Услышав родной бердский диалект, я невольно рассмеялась.
— Что такое? — вытащил наушник сын.
— Ничего, обычный американский бердец.
— Где бы ты ни оказалась, обязательно встречаешь земляка. Магнитом вас друг к другу притягивает?
Конечно магнитом. Бердским, непрошибаемым.
Сеул встретил нас молочным непроглядным туманом. Он тонул в нём по самые пороги храмов — буддийских и христианских. Половина верующего населения Южной Кореи — католики и протестанты. Потому, выглядывая в окно пагоды, обязательно натыкаешься взглядом на увенчанный сдержанными крестом остроконечный шпиль церкви. Вспомнив «Молчание» Скорсезе, интересуюсь у нашего гида Шинар, признаёт ли католическая церковь христиан-корейцев своей паствой. «Признаёт», — успокаивает меня она. На обочине дороги переливается огнями огромная растяжка: «Jesus loves You».
— Всего восемь часов полёта — и ты в мультикультурном толерантном будущем, — констатирует сын.
Южная Корея — страна будущего.
Южная Корея — рай для туристов. Здесь всё, буквально всё радует глаз: стеклянные многоэтажки, старенькие каменные дома — прошлого и позапрошлого столетия, приземистые деревенские постройки, покатые холмы, сплошь поросшие лесом, туманное небо с отражающимся в нём безбрежным океаном. Лето в самом разгаре, везде, даже в городских парках и скверах, слышен настойчивый стрёкот цикад.
— Надо же, обычно они поют в августе, а в этом году проснулись в начале июля, — удивляется Шинар.
Жарко и влажно, воздух туг и бездвижен, и наполнен мелкой дождевой капелью до того состояния, что погружаешься в него, словно в вязкое закатное море. После не по-летнему холодной Москвы мы рады и жаре, и бесконечному дождю. Люди ходят по городу с лёгкими весёлыми зонтами. Летний Сеул — город весёлых дождей и зонтов.
Выбираемся в крепость Хвасон. Первое, что я вижу, выходя из машины — огромная, величиной чуть ли не с гору, статуя Будды. Дыхание перехватывает от такой красоты. Вообразите: густой дождь, заповедный лес, огромное бескрайнее небо и золотистая статуя, нависающая над миром, словно оберег. Единственно возможное в такой ситуации поведение — благоговейное созерцание. Но я, переборов робость, снимаю статую на телефон, ругая себя за бестактность. Утешаюсь тем, что не для себя, а чтобы людям показать.
Вечером, перекидывая фотографии в ноутбук, не обнаруживаю снимка Будды. Перепроверяю несколько раз — все на месте, но именно той фотографии нет. Расстраиваюсь ужасно. Значит, Будда не простил мне моей бесцеремонности.
Рассказываю на следующий день сыну. На мои стенания он пожимает плечом — мама, не нагнетай и не ищи подвоха тем, где его нет.
— Легко сказать не ищи! — завожу волынку я. — Ты ведь помнишь, какая там была красота! Кругом непроходимый влажный лес, дождь и облака отражаются в лужах. А над ними парит Будда. Огромный, золотистый.
Эмиль морщит лоб.
— Честно? Не помню.
— Шинар! — призываю на помощь я гида.
— Здесь много статуй Бадды, — дипломатично отвечает она.
Ну не приснился же он мне!
К разнице во времени так и не привыкаем, потому спим урывками, где накроет. Шутим по этому поводу неустанно.
На третьем часу прогулки по Сеулу:
— Эмиль, о чём задумался?
— С чего ты взяла, что задумался?
— Молчишь.
— Может я сплю!
Коротаю ночную бессонницу чудесным чтением — сборником рассказов Лоры Белоиван «Южнорусское Овчарово». Ахаю от восторга, умиляюсь, грущу, смеюсь. Когда становится совсем невмоготу — отправляю сыну на мессинджер цитаты: «У деда Наиля уши мягкие и удивительно длинные. Их всё время при встрече с дедом хочется потрогать». «Потрогала?» «Балбес!» На третий день книга перекочёвывает в его комнату. Теперь он мне строчит цитаты: «Если подойти к морю поближе, встать лицом к лицу, закрыть глаза — и — вдох, и — вдох, — можно почувствовать на своём затылке небесную длань. Заметили. Погладили по голове. Можно жить дальше».
Хорошо быть неспящим в Сеуле и читать Лору Белоиван.
Нам очень повезло с гидом. Шинар переехала в Южную Корею из Казахстана, живёт в стране уже девять лет, получила здесь второе высшее образование. Вежливая, тактичная, знающая девушка. На любые вопросы отвечает охотно и исчерпывающе. Спрашиваем об отношении корейцев к реинкарнации. «Дзен-буддисты, — рассказывает Шинар, — верят в бессмертие души, но считают, что она может переходить от человека только к человеку. Каждая новая жизнь — исправление ошибок предыдущей. Если в этой жизни человек беден, значит в прошлой он был алчным. Если он болеет, значит в прошлой жизни кому-то сильно навредил».
— Что же такое натворил в прошлой жизни писатель? — шёпотом спрашиваю у Эмиля.
— Спалил Александрийскую библиотеку! — следует молниеносный ответ.
В Музее Искусства восторгаемся красотой корейских колоколов. Ушко колокола — недовольный дракон, застывший в странной позе.
— Знаете почему он такой взъерошенный? — спрашивает Шинар. — Низ колокола символизирует дно мира — воду. А драконы, будучи огненными существами, боятся её. Потому он и одёргивает лапы. Отсюда его недовольный вид и необычная, «вывернутая» поза. И кстати, драконов вы встретите только на корейских колоколах.
Музей войны подкупает своей сдержанностью и достоинством: ничего такого, что давило бы на жалость и вышибало слезу. Корейцы умеют радоваться как дети, но в скорби они молчаливы и неприступны. Уходим из музея задумчивые, каждый в своих мыслях.
— Заметил, как мало на улицах японских машин? — понаблюдав за городским движением, спрашиваю у сына. — Может причиной тому горькая историческая память?
— Лично я не заметил ни одной российской. Ни шестёрок, ни Нив, ни даже Лады Калины. Затрудняюсь объяснить сей горький казус!
Застаём чудесный праздник: фестиваль лотоса. Во дворах пагод, в специальных высоких кадках, распускаются лиловые, розовые, белые, жёлтые лотосы. Любоваться ими можно бесконечно. Угощаемся лотосовым чаем — у него ярко выраженный травяной вкус, чуть терпкий и горчащий. Женщина, которая разливает чай, просит оставить отзыв в специальной книге. Пока я пишу, Эмиль доводит до порога храма древнюю старушку — та идёт, еле ковыляя, цепляясь руками за прохожих.
— Хороший у неё сын, добрый, — говорит женщина.
Шинар передаёт мне её слова.
— Почти буддист, — шучу я.
— Почему почти? — улыбается Шинар.
Действительно, почему? Южная Корея — первая страна, где у моего сына-астматика не случилось аллергического обострения. Обычно он остро реагирует на смену климата, а в Сеуле мы об антигистаминниках и не вспоминаем.
— Эмиль, ты, наверное, в прошлой жизни был корейцем, — объявляю я сыну.
— А в этой ростом не вышел, потому армянин!
Ростом он скорее «перевышел», развевается над прохожими пожарной каланчой. Но я бы не сказала, что корейцы сильно от него отстают, особенно молодёжь. Наблюдаешь за ней с радостным умилением — изящные прехорошенькие девушки, симпатичные юноши. Корейцы — удивительно красивый народ.
В выставочном центре Самсунга впадаем в детство. Бегаем от экрана к экрану, проходим квесты, определяем свою профессию, конструируя идеальный на свой взгляд мир. Если верить результату, Эмиль должен был стать кардиологом. Моя профессия ввергает его в веселье: Earth planet pilot.
— Завидуешь поди, — защищаюсь я. — Смотри какую мне характеристику выдали: «You have a vision for the future and strong leadership of Earth»!
— Можно было просто написать «зануда»!
От Шинар мы узнаём много интересного. Например, что раньше корейцы справляли день рождения всего два раза в жизни: в год и в шестьдесят лет. Детская смертность была столь высока, что мало кто доживал до двенадцати месяцев (притом считали не со дня рождения, а со дня зачатия). Потому если ребёнку исполнялся год, родители закатывали большой праздник, на который приходила вся деревня. А когда кому-нибудь из родителей исполнялось шестьдесят лет, пышный праздник устраивали дети. Причина та же — мало кто доживал до столь почтенного по меркам тех времён возраста. Сейчас дань рождения родителей справляют и в 70, и в 80, и в 90 лет.
Или вот ещё: заборов вокруг деревенских домов не воздвигали, потому что воровства не было. Но перед входом во двор сооружали специальное ограждение, которое имело не охранное, а информирующее назначение. Представляло оно собой два невысоких каменных столба с продолбленными отверстиями, куда вдевали балки. Если на землю одним концом опускали верхнюю балку, это означало, что в доме только дети, взрослые куда-то ненадолго ушли, так что желающие зайти в гости могут заглянуть позже. Если были опущены две верхние балки, это означало, что дома все, можно смело заходить. Если же все три балки стояли в углублениях, люди знали, что хозяева надолго уехали из деревни, и в доме никого нет.
Ну и о корейской кухне. Сервис в Южной Корее молниеносный: не успел сделать заказ, а тебе уже накрыли стол. Едят корейцы железными палочками — ими значительно труднее, чем деревянными. Если посетитель имел оплошность не заказать суп, ему обязательно принесут в небольшой чашке бульон — овощной, мясной или грибной. В одном ресторанчике, куда мы с Эмилем заглянули пообедать, официантка, пожилая женщина, не просто принесла бульон, а проследила, чтобы мы его выпили. Мы его пили, воровато пинаясь под столом ногами.
В Южной Корее нам было вкусно. Нет, не так. Нам было безумно вкусно. На корейскую кухню подсаживаешься, как на иглу. В первый день, попробовав знаменитое корейское соленье кимчи, запиваешь его литром воды, чтобы загасить пожар в желудке, клятвенно обещая себе никогда больше к нему не возвращаться. На второй день в беспамятстве съедаешь всю порцию, на третий с нетерпением ждёшь, когда принесут добавки. На четвёртый день завтракаешь, обедаешь и ужинаешь кимчи. Вопреки распространённому мнению, в корейской кухне не всё огненно-острое, так что всегда можно найти что-то на свой вкус. Нам очень понравилось блюдо под названием «Самгепсаль» (барбекю из мяса чёрной свиньи). Тебе приносят множество разных маринадов и салатов, а мясо с чесноком и грибами на углях ты жаришь собственноручно. Потом заворачиваешь его вместе с соленьями в салатный или кунжутный лист и съедаешь.
— Толма на скорую руку, только вкусней, — резюмировал сын.
Хотела я брякнуть знаменитое «это потому что твоя мама не умеет готовить правильную толму», но вовремя прикусила язык.
Перед самим отъездом, в очередной раз перебирая фотографии, обнаруживаю ту, исчезнувшую, с Буддой. Рассматриваю её, не веря своим глазам: на снимке дорога, постройки, автомобильная стоянка, край холма и, в самой дали — крохотный, практически невидимый Будда. Как могло случиться, что я с такого большого расстояния увидела его огромным, возвышающимся над миром, словно воздетая к небу длань? Как и чем объяснить этот странный фокус зрения? Или скорее подсознания?
У Бергмана было, кажется, в «Лице»: Бог хранит молчание, а люди за него говорят. Воистину, всё именно так. Бог сидит на краю Вселенной, наблюдает дождь, удит рыбу, ест кимчи. А мы придумываем за него всю ту ахинею, в которую потом искренне верим.
— Когда же вы угомонитесь! — вздыхает Бог и наблюдает дождь.







— Что такое? — вытащил наушник сын.
— Ничего, обычный американский бердец.
— Где бы ты ни оказалась, обязательно встречаешь земляка. Магнитом вас друг к другу притягивает?
Конечно магнитом. Бердским, непрошибаемым.
Сеул встретил нас молочным непроглядным туманом. Он тонул в нём по самые пороги храмов — буддийских и христианских. Половина верующего населения Южной Кореи — католики и протестанты. Потому, выглядывая в окно пагоды, обязательно натыкаешься взглядом на увенчанный сдержанными крестом остроконечный шпиль церкви. Вспомнив «Молчание» Скорсезе, интересуюсь у нашего гида Шинар, признаёт ли католическая церковь христиан-корейцев своей паствой. «Признаёт», — успокаивает меня она. На обочине дороги переливается огнями огромная растяжка: «Jesus loves You».
— Всего восемь часов полёта — и ты в мультикультурном толерантном будущем, — констатирует сын.
Южная Корея — страна будущего.
Южная Корея — рай для туристов. Здесь всё, буквально всё радует глаз: стеклянные многоэтажки, старенькие каменные дома — прошлого и позапрошлого столетия, приземистые деревенские постройки, покатые холмы, сплошь поросшие лесом, туманное небо с отражающимся в нём безбрежным океаном. Лето в самом разгаре, везде, даже в городских парках и скверах, слышен настойчивый стрёкот цикад.
— Надо же, обычно они поют в августе, а в этом году проснулись в начале июля, — удивляется Шинар.
Жарко и влажно, воздух туг и бездвижен, и наполнен мелкой дождевой капелью до того состояния, что погружаешься в него, словно в вязкое закатное море. После не по-летнему холодной Москвы мы рады и жаре, и бесконечному дождю. Люди ходят по городу с лёгкими весёлыми зонтами. Летний Сеул — город весёлых дождей и зонтов.
Выбираемся в крепость Хвасон. Первое, что я вижу, выходя из машины — огромная, величиной чуть ли не с гору, статуя Будды. Дыхание перехватывает от такой красоты. Вообразите: густой дождь, заповедный лес, огромное бескрайнее небо и золотистая статуя, нависающая над миром, словно оберег. Единственно возможное в такой ситуации поведение — благоговейное созерцание. Но я, переборов робость, снимаю статую на телефон, ругая себя за бестактность. Утешаюсь тем, что не для себя, а чтобы людям показать.
Вечером, перекидывая фотографии в ноутбук, не обнаруживаю снимка Будды. Перепроверяю несколько раз — все на месте, но именно той фотографии нет. Расстраиваюсь ужасно. Значит, Будда не простил мне моей бесцеремонности.
Рассказываю на следующий день сыну. На мои стенания он пожимает плечом — мама, не нагнетай и не ищи подвоха тем, где его нет.
— Легко сказать не ищи! — завожу волынку я. — Ты ведь помнишь, какая там была красота! Кругом непроходимый влажный лес, дождь и облака отражаются в лужах. А над ними парит Будда. Огромный, золотистый.
Эмиль морщит лоб.
— Честно? Не помню.
— Шинар! — призываю на помощь я гида.
— Здесь много статуй Бадды, — дипломатично отвечает она.
Ну не приснился же он мне!
К разнице во времени так и не привыкаем, потому спим урывками, где накроет. Шутим по этому поводу неустанно.
На третьем часу прогулки по Сеулу:
— Эмиль, о чём задумался?
— С чего ты взяла, что задумался?
— Молчишь.
— Может я сплю!
Коротаю ночную бессонницу чудесным чтением — сборником рассказов Лоры Белоиван «Южнорусское Овчарово». Ахаю от восторга, умиляюсь, грущу, смеюсь. Когда становится совсем невмоготу — отправляю сыну на мессинджер цитаты: «У деда Наиля уши мягкие и удивительно длинные. Их всё время при встрече с дедом хочется потрогать». «Потрогала?» «Балбес!» На третий день книга перекочёвывает в его комнату. Теперь он мне строчит цитаты: «Если подойти к морю поближе, встать лицом к лицу, закрыть глаза — и — вдох, и — вдох, — можно почувствовать на своём затылке небесную длань. Заметили. Погладили по голове. Можно жить дальше».
Хорошо быть неспящим в Сеуле и читать Лору Белоиван.
Нам очень повезло с гидом. Шинар переехала в Южную Корею из Казахстана, живёт в стране уже девять лет, получила здесь второе высшее образование. Вежливая, тактичная, знающая девушка. На любые вопросы отвечает охотно и исчерпывающе. Спрашиваем об отношении корейцев к реинкарнации. «Дзен-буддисты, — рассказывает Шинар, — верят в бессмертие души, но считают, что она может переходить от человека только к человеку. Каждая новая жизнь — исправление ошибок предыдущей. Если в этой жизни человек беден, значит в прошлой он был алчным. Если он болеет, значит в прошлой жизни кому-то сильно навредил».
— Что же такое натворил в прошлой жизни писатель? — шёпотом спрашиваю у Эмиля.
— Спалил Александрийскую библиотеку! — следует молниеносный ответ.
В Музее Искусства восторгаемся красотой корейских колоколов. Ушко колокола — недовольный дракон, застывший в странной позе.
— Знаете почему он такой взъерошенный? — спрашивает Шинар. — Низ колокола символизирует дно мира — воду. А драконы, будучи огненными существами, боятся её. Потому он и одёргивает лапы. Отсюда его недовольный вид и необычная, «вывернутая» поза. И кстати, драконов вы встретите только на корейских колоколах.
Музей войны подкупает своей сдержанностью и достоинством: ничего такого, что давило бы на жалость и вышибало слезу. Корейцы умеют радоваться как дети, но в скорби они молчаливы и неприступны. Уходим из музея задумчивые, каждый в своих мыслях.
— Заметил, как мало на улицах японских машин? — понаблюдав за городским движением, спрашиваю у сына. — Может причиной тому горькая историческая память?
— Лично я не заметил ни одной российской. Ни шестёрок, ни Нив, ни даже Лады Калины. Затрудняюсь объяснить сей горький казус!
Застаём чудесный праздник: фестиваль лотоса. Во дворах пагод, в специальных высоких кадках, распускаются лиловые, розовые, белые, жёлтые лотосы. Любоваться ими можно бесконечно. Угощаемся лотосовым чаем — у него ярко выраженный травяной вкус, чуть терпкий и горчащий. Женщина, которая разливает чай, просит оставить отзыв в специальной книге. Пока я пишу, Эмиль доводит до порога храма древнюю старушку — та идёт, еле ковыляя, цепляясь руками за прохожих.
— Хороший у неё сын, добрый, — говорит женщина.
Шинар передаёт мне её слова.
— Почти буддист, — шучу я.
— Почему почти? — улыбается Шинар.
Действительно, почему? Южная Корея — первая страна, где у моего сына-астматика не случилось аллергического обострения. Обычно он остро реагирует на смену климата, а в Сеуле мы об антигистаминниках и не вспоминаем.
— Эмиль, ты, наверное, в прошлой жизни был корейцем, — объявляю я сыну.
— А в этой ростом не вышел, потому армянин!
Ростом он скорее «перевышел», развевается над прохожими пожарной каланчой. Но я бы не сказала, что корейцы сильно от него отстают, особенно молодёжь. Наблюдаешь за ней с радостным умилением — изящные прехорошенькие девушки, симпатичные юноши. Корейцы — удивительно красивый народ.
В выставочном центре Самсунга впадаем в детство. Бегаем от экрана к экрану, проходим квесты, определяем свою профессию, конструируя идеальный на свой взгляд мир. Если верить результату, Эмиль должен был стать кардиологом. Моя профессия ввергает его в веселье: Earth planet pilot.
— Завидуешь поди, — защищаюсь я. — Смотри какую мне характеристику выдали: «You have a vision for the future and strong leadership of Earth»!
— Можно было просто написать «зануда»!
От Шинар мы узнаём много интересного. Например, что раньше корейцы справляли день рождения всего два раза в жизни: в год и в шестьдесят лет. Детская смертность была столь высока, что мало кто доживал до двенадцати месяцев (притом считали не со дня рождения, а со дня зачатия). Потому если ребёнку исполнялся год, родители закатывали большой праздник, на который приходила вся деревня. А когда кому-нибудь из родителей исполнялось шестьдесят лет, пышный праздник устраивали дети. Причина та же — мало кто доживал до столь почтенного по меркам тех времён возраста. Сейчас дань рождения родителей справляют и в 70, и в 80, и в 90 лет.
Или вот ещё: заборов вокруг деревенских домов не воздвигали, потому что воровства не было. Но перед входом во двор сооружали специальное ограждение, которое имело не охранное, а информирующее назначение. Представляло оно собой два невысоких каменных столба с продолбленными отверстиями, куда вдевали балки. Если на землю одним концом опускали верхнюю балку, это означало, что в доме только дети, взрослые куда-то ненадолго ушли, так что желающие зайти в гости могут заглянуть позже. Если были опущены две верхние балки, это означало, что дома все, можно смело заходить. Если же все три балки стояли в углублениях, люди знали, что хозяева надолго уехали из деревни, и в доме никого нет.
Ну и о корейской кухне. Сервис в Южной Корее молниеносный: не успел сделать заказ, а тебе уже накрыли стол. Едят корейцы железными палочками — ими значительно труднее, чем деревянными. Если посетитель имел оплошность не заказать суп, ему обязательно принесут в небольшой чашке бульон — овощной, мясной или грибной. В одном ресторанчике, куда мы с Эмилем заглянули пообедать, официантка, пожилая женщина, не просто принесла бульон, а проследила, чтобы мы его выпили. Мы его пили, воровато пинаясь под столом ногами.
В Южной Корее нам было вкусно. Нет, не так. Нам было безумно вкусно. На корейскую кухню подсаживаешься, как на иглу. В первый день, попробовав знаменитое корейское соленье кимчи, запиваешь его литром воды, чтобы загасить пожар в желудке, клятвенно обещая себе никогда больше к нему не возвращаться. На второй день в беспамятстве съедаешь всю порцию, на третий с нетерпением ждёшь, когда принесут добавки. На четвёртый день завтракаешь, обедаешь и ужинаешь кимчи. Вопреки распространённому мнению, в корейской кухне не всё огненно-острое, так что всегда можно найти что-то на свой вкус. Нам очень понравилось блюдо под названием «Самгепсаль» (барбекю из мяса чёрной свиньи). Тебе приносят множество разных маринадов и салатов, а мясо с чесноком и грибами на углях ты жаришь собственноручно. Потом заворачиваешь его вместе с соленьями в салатный или кунжутный лист и съедаешь.
— Толма на скорую руку, только вкусней, — резюмировал сын.
Хотела я брякнуть знаменитое «это потому что твоя мама не умеет готовить правильную толму», но вовремя прикусила язык.
Перед самим отъездом, в очередной раз перебирая фотографии, обнаруживаю ту, исчезнувшую, с Буддой. Рассматриваю её, не веря своим глазам: на снимке дорога, постройки, автомобильная стоянка, край холма и, в самой дали — крохотный, практически невидимый Будда. Как могло случиться, что я с такого большого расстояния увидела его огромным, возвышающимся над миром, словно воздетая к небу длань? Как и чем объяснить этот странный фокус зрения? Или скорее подсознания?
У Бергмана было, кажется, в «Лице»: Бог хранит молчание, а люди за него говорят. Воистину, всё именно так. Бог сидит на краю Вселенной, наблюдает дождь, удит рыбу, ест кимчи. А мы придумываем за него всю ту ахинею, в которую потом искренне верим.
— Когда же вы угомонитесь! — вздыхает Бог и наблюдает дождь.







Published on July 14, 2017 11:05
Narine Abgaryan's Blog
- Narine Abgaryan's profile
- 966 followers
Narine Abgaryan isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.