Narine Abgaryan's Blog, page 17
October 3, 2016
— Ну-ка отойди от края пропасти! Кому говорят отойди! — к...
— Ну-ка отойди от края пропасти! Кому говорят отойди! — кипятится папа.
— Я осторожно. Реку хочу снять.
— Отойди! Пропасть притягивает!
Отошла. Зачем нервировать папу. Зачем снимать реку с края пропасти. Я и так храню её за пазухой. Там у меня много всего: каменный мост, колючие кустики барбариса, утренний крик чижей, скрип подпорок деревянной веранды, пчелиное жужжание над вазочкой с вареньем, скоропалительная полуденная гроза — напустит шороху и развеется, словно и не было её. За пазухой у меня запахи-вкусы-шорохи. Звуки-слова. Такие, которых нигде более мне не произнесут.
— День сегодня наперекосяк, — вздыхает старенькая бабушка Шушаник.
— Почему?
— Пописала всухомятку.
— Это как???
Шушаник прикладывает ладонь козырьком ко лбу, смотрит на меня снизу вверх снисходительно, с жалостью. Цокает языком.
— И-их, сразу видно — в городе давно живёшь. Поглупала, наши слова забыла. Пописать всухомятку — это когда по-маленькому сходил, а по-большому не получилось, ясно?
Ясно, чего уж тут неясного. Теперь не забуду её «цамак цетеци» никогда.
У папы одуванчиковая макушка и пушистые ресницы. Мама — моя ровесница и такой будет всегда, потому что мамы не стареют, они становятся только краше и лучше. У родителей столько любви к нам, что кажется — ею можно затопить всё ущелье — от Старухиного Камня до Великановой пещеры. И нырять туда с самой высоты облаков — со счастливым визгом, с клокочущим в горле сердцем, с голубь-птицей в руках. Всё, чего мы добились, всё, что мы обрели — благодаря этой безоговорочной, бескрайней любви. Но романтика романтикой, а южные страсти никто не отменял. Если к детям у родителей любовь, то друг к другу — незатихающая кровопролитная война. Отношения «нежнейшие» — папа суров и бескомпромиссен, мама уверена в своей абсолютной правоте. Папа смотрит футбол и ругается с ютубом, мама печёт витиеватые торты и обижается, когда муж их отвергает как скверну. Позывные те же:
— Бердский ишак!
— Кировабадци!
В личной жизни всё по-старому: папа претендует, мама отлынивает. Потому все диалоги с подковыркой.
Мама:
— Включи свет, а то я тебя плохо слышу.
Папа:
— Женщина, от тебя толку ноль. Одни коммунальные расходы!
Таю, таю от любви и нежности.
Хожу за ними хвостиком, записываю всё в блокнот.
Папа рассказывает: «У нас соседка была, страшная как смерть — косая, рябая, кривая. Дети её постоянно страдали диареей. Утра наши начиналось одинаково: сначала раздавался стук в дверь, потом в прихожую виновато заглядывала соседка.
— Барев дзес! Соник джан, дай три таблетки «Биомицина»!
— Снова у детей живот болит? — участливо спрашивала мама, протягивая ей блистер.
— Поели какого-то немытого говна, вот и болит! — с достоинством отвечала соседка, выдавливала себе на ладонь три таблетки и раскланивалась.
Вечерами история повторялась.
— Барригун дзес! — заглядывала в прихожую соседка. — Соник джан, дай три таблетки «Биомицина»!
Её так и звали за глаза — Биомицин.
Папа незаметно кивает на старого замшелого деда:
— Это Енинанц Цаган. Сидит круглыми сутками у своей калитки, караулит прохожих. Если кто-то, проходя мимо, не здоровается — материт вслед до седьмого колена. Так что обязательно поздоровайся. Барев, Цаган апи, как дела?
— Барев, Юрик джан.
— Берев дзез, Цаган апи! — подхватываю я.
— Барев, дочка, хоть и не узнаю, кто ты такая.
— Ушли необруганными, — выдыхаю я, когда отходим на безопасное расстояние.
— Не факт, — пожимает плечом папа.
Смеёмся до хрипоты.
Мама:
— Вон, в том доме жила Астхик, помнишь её? Красивая зеленоглазая девочка. Сошла с ума, умерла. А вот в этом доме жила Айинанц Амалия. Погибла в войну. А этот дом так и не достроили...
— Что, тоже умерли?
— Типун тебе на язык, почему умерли? В Америку переехали. Или в Россию?
Треть Берда в Америке. Другая треть — в России.
Остались самые стойкие. Обнять и плакать.
Папа, выглядывая в окно:
— Ухки джан, солнце показало нос, значит, погода будет хорошей.
«Ухки джан», — шёпотом повторяю забытые слова.
Однажды я вернусь туда. Берд покряхтит, но примет меня обратно. И даже сделает вид, что я вовсе не уезжала.
А я и не уезжала. Я была и осталась там навсегда.


— Я осторожно. Реку хочу снять.
— Отойди! Пропасть притягивает!
Отошла. Зачем нервировать папу. Зачем снимать реку с края пропасти. Я и так храню её за пазухой. Там у меня много всего: каменный мост, колючие кустики барбариса, утренний крик чижей, скрип подпорок деревянной веранды, пчелиное жужжание над вазочкой с вареньем, скоропалительная полуденная гроза — напустит шороху и развеется, словно и не было её. За пазухой у меня запахи-вкусы-шорохи. Звуки-слова. Такие, которых нигде более мне не произнесут.
— День сегодня наперекосяк, — вздыхает старенькая бабушка Шушаник.
— Почему?
— Пописала всухомятку.
— Это как???
Шушаник прикладывает ладонь козырьком ко лбу, смотрит на меня снизу вверх снисходительно, с жалостью. Цокает языком.
— И-их, сразу видно — в городе давно живёшь. Поглупала, наши слова забыла. Пописать всухомятку — это когда по-маленькому сходил, а по-большому не получилось, ясно?
Ясно, чего уж тут неясного. Теперь не забуду её «цамак цетеци» никогда.
У папы одуванчиковая макушка и пушистые ресницы. Мама — моя ровесница и такой будет всегда, потому что мамы не стареют, они становятся только краше и лучше. У родителей столько любви к нам, что кажется — ею можно затопить всё ущелье — от Старухиного Камня до Великановой пещеры. И нырять туда с самой высоты облаков — со счастливым визгом, с клокочущим в горле сердцем, с голубь-птицей в руках. Всё, чего мы добились, всё, что мы обрели — благодаря этой безоговорочной, бескрайней любви. Но романтика романтикой, а южные страсти никто не отменял. Если к детям у родителей любовь, то друг к другу — незатихающая кровопролитная война. Отношения «нежнейшие» — папа суров и бескомпромиссен, мама уверена в своей абсолютной правоте. Папа смотрит футбол и ругается с ютубом, мама печёт витиеватые торты и обижается, когда муж их отвергает как скверну. Позывные те же:
— Бердский ишак!
— Кировабадци!
В личной жизни всё по-старому: папа претендует, мама отлынивает. Потому все диалоги с подковыркой.
Мама:
— Включи свет, а то я тебя плохо слышу.
Папа:
— Женщина, от тебя толку ноль. Одни коммунальные расходы!
Таю, таю от любви и нежности.
Хожу за ними хвостиком, записываю всё в блокнот.
Папа рассказывает: «У нас соседка была, страшная как смерть — косая, рябая, кривая. Дети её постоянно страдали диареей. Утра наши начиналось одинаково: сначала раздавался стук в дверь, потом в прихожую виновато заглядывала соседка.
— Барев дзес! Соник джан, дай три таблетки «Биомицина»!
— Снова у детей живот болит? — участливо спрашивала мама, протягивая ей блистер.
— Поели какого-то немытого говна, вот и болит! — с достоинством отвечала соседка, выдавливала себе на ладонь три таблетки и раскланивалась.
Вечерами история повторялась.
— Барригун дзес! — заглядывала в прихожую соседка. — Соник джан, дай три таблетки «Биомицина»!
Её так и звали за глаза — Биомицин.
Папа незаметно кивает на старого замшелого деда:
— Это Енинанц Цаган. Сидит круглыми сутками у своей калитки, караулит прохожих. Если кто-то, проходя мимо, не здоровается — материт вслед до седьмого колена. Так что обязательно поздоровайся. Барев, Цаган апи, как дела?
— Барев, Юрик джан.
— Берев дзез, Цаган апи! — подхватываю я.
— Барев, дочка, хоть и не узнаю, кто ты такая.
— Ушли необруганными, — выдыхаю я, когда отходим на безопасное расстояние.
— Не факт, — пожимает плечом папа.
Смеёмся до хрипоты.
Мама:
— Вон, в том доме жила Астхик, помнишь её? Красивая зеленоглазая девочка. Сошла с ума, умерла. А вот в этом доме жила Айинанц Амалия. Погибла в войну. А этот дом так и не достроили...
— Что, тоже умерли?
— Типун тебе на язык, почему умерли? В Америку переехали. Или в Россию?
Треть Берда в Америке. Другая треть — в России.
Остались самые стойкие. Обнять и плакать.
Папа, выглядывая в окно:
— Ухки джан, солнце показало нос, значит, погода будет хорошей.
«Ухки джан», — шёпотом повторяю забытые слова.
Однажды я вернусь туда. Берд покряхтит, но примет меня обратно. И даже сделает вид, что я вовсе не уезжала.
А я и не уезжала. Я была и осталась там навсегда.


Published on October 03, 2016 12:21
September 28, 2016
Вышел сборник рассказов. Счастливых и радостных. О чудеса...
Вышел сборник рассказов. Счастливых и радостных. О чудесах, которые случаются в Новый год и Рождество.
Сборник воистину волшебный и рождественский, ведь десять процентов издательской выручки будут перечислены благотворительному Фонду "Созидание". У каждого покупателя таким образом появится возможность помочь подопечным нашего фонда.
Я хочу поблагодарить всех авторов, которые специально для сборника писали рассказы. Спасибо издательству АСТ и его чудесным сотрудникам.
Моя огромная благодарность родному главреду editorskoe
и бессменному редактору
editorskoe
и бессменному редактору
 melicenta77
.
melicenta77
.
Спасибо каждому, кто приобретёт книгу.
Чтение помогает нам оставаться людьми. А возможность помочь спасает от одиночества.
Помогать легко. Помогать прекрасно.
Давайте держаться друг друга. Давайте читать.
Сборник уже можно приобрести в "Лабиринте": http://www.labirint.ru/books/553335/
Скоро она появится во всех книжных магазинах.

Сборник воистину волшебный и рождественский, ведь десять процентов издательской выручки будут перечислены благотворительному Фонду "Созидание". У каждого покупателя таким образом появится возможность помочь подопечным нашего фонда.
Я хочу поблагодарить всех авторов, которые специально для сборника писали рассказы. Спасибо издательству АСТ и его чудесным сотрудникам.
Моя огромная благодарность родному главреду
 editorskoe
и бессменному редактору
editorskoe
и бессменному редактору
 melicenta77
.
melicenta77
. Спасибо каждому, кто приобретёт книгу.
Чтение помогает нам оставаться людьми. А возможность помочь спасает от одиночества.
Помогать легко. Помогать прекрасно.
Давайте держаться друг друга. Давайте читать.
Сборник уже можно приобрести в "Лабиринте": http://www.labirint.ru/books/553335/
Скоро она появится во всех книжных магазинах.

Published on September 28, 2016 07:01
September 27, 2016
Я мало знаю Ереван. В моей памяти он остался таким, каким...
Я мало знаю Ереван. В моей памяти он остался таким, каким был в девяностые, в годы моего неприкаянного студенчества — холодный, голодный, больной и больный. Каждый раз, возвращаясь в Армению, я по возможности быстро уезжала в Берд, и не только потому, что там живут родители, а потому, что несмотря на войну, там осталось моё счастливое детство, знакомые вкусы-ароматы-цвета, всё то, чем я жила эти годы. Всё то, что помогало мне работать.
Мне всегда казалось, что Ереван относится ко мне несколько свысока. Впрочем, так и было. Когда папа купил квартиру на Адонца, наши новоиспечённые соседки, белая столичная кость, моментально нас возненавидели, демонстративно не отвечали на приветствие, а однажды, когда я возмутилась, обозвали махровой провинцией. Тогда я жутко расстроилась, а сейчас смеюсь. Знали бы большие города, сколько среди понаехавшей братии людей, которыми они потом будут искренне гордиться. Я, наверное, и не задерживалась надолго в Ереване потому, что всегда ощущала свою неуместность: в душе я всё равно оставалась провинциальной девочкой. В душе я всегда буду такой.
Но этой осенью Ереван меня принял. Он, словно утомлённый к вечеру торговец, разворачивал передо мной весь товар, который, в надежде продать дороже, прятал в рукаве: ладно, так и быть, ты долго ждала, бери за полцены, бери даром, бери навсегда. Это было невероятное наслаждение — общаться с теми, кто понимает тебя с полслова, кто, бросив дела, приезжает из других стран и городов, чтобы побывать на встрече с тобой. Это было удивительное ощущение — слушать город под жестяную капель дождя, дышать его воздухом, быть его частичкой. Ереван сводил меня именно с теми людьми, которых мне давно не хватало, раскрывался той стороной, которую я не знала, проводил по тем улочкам, которых я не чаяла увидеть.
Ереван щедро грел и любил.
Спасибо всем и каждому, кто сделал теперь уже мой город таким прекрасным и незабываемым. Спасибо.
Фотография Vahan Stepanyan

Мне всегда казалось, что Ереван относится ко мне несколько свысока. Впрочем, так и было. Когда папа купил квартиру на Адонца, наши новоиспечённые соседки, белая столичная кость, моментально нас возненавидели, демонстративно не отвечали на приветствие, а однажды, когда я возмутилась, обозвали махровой провинцией. Тогда я жутко расстроилась, а сейчас смеюсь. Знали бы большие города, сколько среди понаехавшей братии людей, которыми они потом будут искренне гордиться. Я, наверное, и не задерживалась надолго в Ереване потому, что всегда ощущала свою неуместность: в душе я всё равно оставалась провинциальной девочкой. В душе я всегда буду такой.
Но этой осенью Ереван меня принял. Он, словно утомлённый к вечеру торговец, разворачивал передо мной весь товар, который, в надежде продать дороже, прятал в рукаве: ладно, так и быть, ты долго ждала, бери за полцены, бери даром, бери навсегда. Это было невероятное наслаждение — общаться с теми, кто понимает тебя с полслова, кто, бросив дела, приезжает из других стран и городов, чтобы побывать на встрече с тобой. Это было удивительное ощущение — слушать город под жестяную капель дождя, дышать его воздухом, быть его частичкой. Ереван сводил меня именно с теми людьми, которых мне давно не хватало, раскрывался той стороной, которую я не знала, проводил по тем улочкам, которых я не чаяла увидеть.
Ереван щедро грел и любил.
Спасибо всем и каждому, кто сделал теперь уже мой город таким прекрасным и незабываемым. Спасибо.
Фотография Vahan Stepanyan

Published on September 27, 2016 07:16
September 17, 2016
Вроде сентябрь, пока половина, в долине лето — утомлённое...
Вроде сентябрь, пока половина, в долине лето — утомлённое, треснувшее по боку, перебродившее — и всё же лето, а в горах уже пахнет зимой, она так близко, словно и не уходила вовсе, словно пряталась на дне ущелий, в стенах вечномёрзлых пещер, в загривках быстрокрылых ветров. Нигде более так остро не ощущаешь свою вечность и свою же скоротечность, как в горах. Даже посреди самого жаркого полудня, когда воздух нем и бездвижен, а разомлевшее солнце душно висит над перевалом, вознамерившись остаться там «на навсегда», зима найдёт возможность дать о себе знать — морозно-влажным сколом на треснувшем валуне, замертво упавшей птицей, горстью прошлогоднего снега, которую тебе, шестилетней, протянет бабушка, посчитав, что ты уже достаточно взрослая, чтобы это знать. Она разломит пополам этот перепачканный землёй, заскорузлый от подталин ком снега, и ты увидишь, что он целиком, насквозь кишит медленными белёсыми червями. Всюду жизнь и смерть, скажет бабушка, и в её словах будет столько правды и смысла, что тебе, шестилетнему неразумному зверёнышу, расхочется что-либо уточнять. Ты развернёшься и помчишься вниз по склону, не наискосок, чтобы поберечь ноги, а напрямик, хватая ртом ледяной воздух, перепрыгивая через колючие кусты седого чертополоха и выступающие низеньким частоколом ржавые стебли аслара — выдернул трубочку, надул до упора, резко намотал на кулак — он взрывается с глухим протяжным хлопком. Именно в тот день ты поймёшь, как это сложно — жить с безусловной, непреложной истиной. Потому инстинктивно сделаешь то, что обычно и делают люди, столкнувшиеся с ней: притворишься, что её не существует. Сбежишь.
У каждого человека свой рай, откуда однажды, не справившись с бременем истины, он сбегает. Мой рай там, где на приветствие отвечают «твоё "здравствуй" принадлежит Богу», где, поторапливая, напоминают «у дня не осталось времени для вздоха», где, встретившись с тобой на улице, с трудом заговаривают на литературном армянском, но сразу же, махнув рукой, переходят на родной диалект: «во всём мире хорошие слова произносят с одинаковым выражением лица, не поймёшь — так догадаешься». Узнав, что ты местная, тут же деловито принимаются выяснять, «чья ты будешь» (Пашоянц? вааа, как не знаю! ты Юрика дочка или Лёвика?)
Мой рай там, где холмы, по-старчески покряхтывая, бьют каждое утро челобитную восходу, вымаливая ещё один мирный день. Где в ночи так густо поют сверчки, что кажется — их слышно за перевалом. Где в погребах, кутаясь в бабушкину шаль, дремлет время. Где в водной ряби дождевых бочек отражается привычный с детства ковш Большой Медведицы: посмотреть так — он цепляет своим хвостом печную трубу соседского дома, а вот так — наматывает на палец невесомый облачный пух. Где до сих пор в обиходе старинное слово «пйнджряпсюк», подразумевающее ласковую морось, под которую растёт молодая крапива.
Мой рай там, где горы. Я возвращаюсь к ним всякий раз, когда тяжело и невмоготу. Стою на самой вершине — объятая ветром, оглушённая безыскусной библейской красотой родных мест. Вокруг такая тишина, что слышно шум крыльев пролетающей надо мной птицы — она кружит в небе долго, истово, словно ждёт знака, чтобы спуститься вниз. Я наблюдаю за ней и думаю о том, что в тот день, когда бабушка показала мне червивый снег, она была старше теперешней меня всего на семь лет. Она была почти моей ровесницей, и так много уже знала о жизни и смерти. «А ты — что? — спрашиваю я у себя.— А ты — кто?» Не найдя ответа, принимаюсь оправдываться: я мать, я дочь, я сестра, жена, подруга. Я пишу книги. Я стараюсь не сосволочиться, не спиться. Стараюсь не осуждать. По возможности я помогаю. Отказав в помощи — переживаю. Иногда я бываю такой невыносимой, что хочется себя запретить. Ищу свою истину и не могу найти. Боже, говорю я, Боже, почему ты молчишь. Подай знак, подскажи, объясни. Небо слушает молча, не перебивает. Выслушав мою исповедь, отпускает. Дождавшись, когда уйду, опускается на колени, осторожно трогает мои следы: прикасается к ним кончиками пальцев, согревает своим дыханием. Боже, говорит небо, Боже, как ты вообще их выносишь — безголовых этих дураков. Они так часто обвиняют тебя в том, что молчишь. Но если ты вдруг заговоришь — они разбегутся стремглав, опрометью, изо всех сил. Знали бы они, какая это мука — быть хранителем безусловной, непреложной истины. Знали бы они.

У каждого человека свой рай, откуда однажды, не справившись с бременем истины, он сбегает. Мой рай там, где на приветствие отвечают «твоё "здравствуй" принадлежит Богу», где, поторапливая, напоминают «у дня не осталось времени для вздоха», где, встретившись с тобой на улице, с трудом заговаривают на литературном армянском, но сразу же, махнув рукой, переходят на родной диалект: «во всём мире хорошие слова произносят с одинаковым выражением лица, не поймёшь — так догадаешься». Узнав, что ты местная, тут же деловито принимаются выяснять, «чья ты будешь» (Пашоянц? вааа, как не знаю! ты Юрика дочка или Лёвика?)
Мой рай там, где холмы, по-старчески покряхтывая, бьют каждое утро челобитную восходу, вымаливая ещё один мирный день. Где в ночи так густо поют сверчки, что кажется — их слышно за перевалом. Где в погребах, кутаясь в бабушкину шаль, дремлет время. Где в водной ряби дождевых бочек отражается привычный с детства ковш Большой Медведицы: посмотреть так — он цепляет своим хвостом печную трубу соседского дома, а вот так — наматывает на палец невесомый облачный пух. Где до сих пор в обиходе старинное слово «пйнджряпсюк», подразумевающее ласковую морось, под которую растёт молодая крапива.
Мой рай там, где горы. Я возвращаюсь к ним всякий раз, когда тяжело и невмоготу. Стою на самой вершине — объятая ветром, оглушённая безыскусной библейской красотой родных мест. Вокруг такая тишина, что слышно шум крыльев пролетающей надо мной птицы — она кружит в небе долго, истово, словно ждёт знака, чтобы спуститься вниз. Я наблюдаю за ней и думаю о том, что в тот день, когда бабушка показала мне червивый снег, она была старше теперешней меня всего на семь лет. Она была почти моей ровесницей, и так много уже знала о жизни и смерти. «А ты — что? — спрашиваю я у себя.— А ты — кто?» Не найдя ответа, принимаюсь оправдываться: я мать, я дочь, я сестра, жена, подруга. Я пишу книги. Я стараюсь не сосволочиться, не спиться. Стараюсь не осуждать. По возможности я помогаю. Отказав в помощи — переживаю. Иногда я бываю такой невыносимой, что хочется себя запретить. Ищу свою истину и не могу найти. Боже, говорю я, Боже, почему ты молчишь. Подай знак, подскажи, объясни. Небо слушает молча, не перебивает. Выслушав мою исповедь, отпускает. Дождавшись, когда уйду, опускается на колени, осторожно трогает мои следы: прикасается к ним кончиками пальцев, согревает своим дыханием. Боже, говорит небо, Боже, как ты вообще их выносишь — безголовых этих дураков. Они так часто обвиняют тебя в том, что молчишь. Но если ты вдруг заговоришь — они разбегутся стремглав, опрометью, изо всех сил. Знали бы они, какая это мука — быть хранителем безусловной, непреложной истины. Знали бы они.

Published on September 17, 2016 07:47
September 10, 2016
Дорогие ереванцы, 22 сентября в Доме-музее Ара Саргсяна и...
Дорогие ереванцы, 22 сентября в Доме-музее Ара Саргсяна и Акопа Коджояна издательство "+3" презентует "Великана, который мечтал играть на скрипке".
Книгу представляем мы с Левоном Абрамяном. Пока я буду развлекать взрослых разговорами, Левон проведёт мастер-класс по лепке пластилином с вашими детьми.
Приходите пообщаться. Я буду очень рада. Правда, литературного армянского от меня не ждите, будет настоящий бердский барбар.
Ու յեդով էլ ասեք վեչ, թե զգուշըցրել չեմ!
Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/1074187522617195/
Книгу представляем мы с Левоном Абрамяном. Пока я буду развлекать взрослых разговорами, Левон проведёт мастер-класс по лепке пластилином с вашими детьми.
Приходите пообщаться. Я буду очень рада. Правда, литературного армянского от меня не ждите, будет настоящий бердский барбар.
Ու յեդով էլ ասեք վեչ, թե զգուշըցրել չեմ!
Ссылка на мероприятие: https://www.facebook.com/events/1074187522617195/
Published on September 10, 2016 22:37
September 8, 2016
Друзья, буду на ММКВЯ в субботу, 10-го сентября. В 16.00 ...
Друзья, буду на ММКВЯ в субботу, 10-го сентября. В 16.00 — на стенде АСТ, а в 17.30 — "Читай-города". Если есть время и желание — заглядывайте на огонёк. Отвечу на все вопросы, подпишу книжки. Станцую, спою. В общем, опозорюсь так, как умею только я!
http://mibf.info/
http://mibf.info/
Published on September 08, 2016 02:04
September 4, 2016
Наша Эва с недавних пор фея. Без крыльев из дома не выход...
Наша Эва с недавних пор фея. Без крыльев из дома не выходит. Крылья розовые, прозрачные, надеваются на плечи, как рюкзачок. Эва периодически их воинственно поправляет, помогая себе всем телом. Выражение лица при этом такое, что птицы падают замертво на лету.
Крылатая Эва — новая достопримечательность Омахи. Где она только не застревала! Откуда только её не выковыривали!
— Ну-с, и как мы сегодня отличились? — любопытствует мистер Ларкинз, наблюдая, в каком виде она возвращается домой (жёваные крылья, нахлобученная задом наперёд помятая корона, сломанная волшебная палочка, рваный подол платья).
— Там отличились! — туманно намекает Эва (хвастать своими подвигами она не любит).
— Где это там? — не унимается мистер Ларкинз.
— На пруде. С утками говорила и застряла в решётке!
И, посчитав тему исчерпанной, она уходит третировать кавалера сердца Джорджа.
— В смысле с утками говорила и застряла в решётке? — запотевает очками мистер Ларкинз.
Каринка вздыхает.
— Утки ладно, они успели привыкнуть к её басовитому голосу и не разлетаются кто куда. Она за мальчиком погналась, чтобы отобрать у него мяч. Тот, спасая имущество, перелез через ограду, а она не смогла. Решила протаранить. Ну и застряла между прутьями. Еле выковыряли, хм.
У мистера Ларкинза делается такое лицо, словно он встретился с неведомой доселе формой непредсказуемой и опасной жизни.
— Чем она решила протаранить ограду? — осторожно спрашивает он.
Каринка смотрит на него с жалостью. Вот ведь незамутнённый человек!
— Чем-чем! Собой.
И, тоже посчитав тему разговора исчерпанной, убегает спасать кавалера сердца Джорджа, которого переполненная любовью Эва вполне конкретно душит на свежеподстриженном газоне мисс Мёрфи.
У каждой феи есть крёстная. Эвина крёстная, как и полагается уважающей себя фее с армянскими корнями, живёт в Глендейле.
Эва периодически звонит ей, чтобы поговорить за жизнь.
— Ты мне настоящие крылья подаришь? — идёт напролом она.
— Зачем тебе настоящие крылья? Упадёшь ещё, поранишься! — волнуется крёстная.
— Кхм! — подаёт голос Каринка.
— Подарю, конечно! — спохватывается крёстная.
— А сама-то ты хоть летать умеешь? — волнуется Эва.
— Деточка, я вешу восемьдесят кило. Какие полёты?
— Кхм-кхм!
— Летаю, ага. Но только в шлеме и наколенниках!
Эва кладёт трубку.
— Мама, моя крёстная точно фея?
— Самая что ни на есть! Просто память у неё дырявая, никак не может этого запомнить!
(Роль крёстной феи исполняет моя бывшая однокурсница).
Вот уже три недели, как Эва ходит в садик. Потому утра Каринки наступают за час до звона будильника. Ровно в 7.00 (иногда и того раньше) её будит громкое дыхание дочери. При полном параде: крылья, корона и волшебная палочка, с красной пожарной машиной подмышкой, она стоит над матерью и сверлит ей переносицу укоризненным взглядом. Каринка сдаётся, когда от сопения дочери начинает опасно раскачиваться люстра на потолке. Со вздохом приоткрывает глаз.
— Юбзяк наположен! — рапортует на ломаном русском Эва, кивая на набитый доверху всякой грохочущей дребеденью свой рюкзак. — Вставай, горе, пора в садик!
— Рано ещё! — сопротивляется Каринка.
— Сказано вставай! И не забудь зубы почистить!
Через пятнадцать минут мать и дочь выходят из дому.
— Мама, а вот мисс Пердунья говорит, что я не на фею похожа, а на плюшку! — басит на всю Ховард-Стрит Эва, подпрыгивая так, чтобы крылья встали на место.
— Не Пердунья, а Петрунья! — поправляет Каринка, радуясь тому, что мисс Петрунья не знает русского.
— Ну ты ей скажи, что я всё-таки фея, — зудит Эва.
— Хорошо.
У Мисс Петруньи оливковая кожа и бурные золотистые кудряшки. Второй такой красавицы в Омахе нет.
— Доброе утро, я вам фею привела, — делает ей глазами Каринка.
— Хэллоу, Плюшка! — здоровается мисс Петрунья.
— У мисс Пердуньи тоже память дырявая, — удручённо констатирует Эва.
Трудно, очень трудно выживать маленьким феям в мире больших, дырявых на всю голову людей!
*
Друзья, Каринка открыла на etsy свою страничку. Показываю с огромной радостью и гордостью. Вдруг вам нужно подарить оригинальное, а вы не знаете, что придумать: https://www.etsy.com/shop/Abgaryan


Крылатая Эва — новая достопримечательность Омахи. Где она только не застревала! Откуда только её не выковыривали!
— Ну-с, и как мы сегодня отличились? — любопытствует мистер Ларкинз, наблюдая, в каком виде она возвращается домой (жёваные крылья, нахлобученная задом наперёд помятая корона, сломанная волшебная палочка, рваный подол платья).
— Там отличились! — туманно намекает Эва (хвастать своими подвигами она не любит).
— Где это там? — не унимается мистер Ларкинз.
— На пруде. С утками говорила и застряла в решётке!
И, посчитав тему исчерпанной, она уходит третировать кавалера сердца Джорджа.
— В смысле с утками говорила и застряла в решётке? — запотевает очками мистер Ларкинз.
Каринка вздыхает.
— Утки ладно, они успели привыкнуть к её басовитому голосу и не разлетаются кто куда. Она за мальчиком погналась, чтобы отобрать у него мяч. Тот, спасая имущество, перелез через ограду, а она не смогла. Решила протаранить. Ну и застряла между прутьями. Еле выковыряли, хм.
У мистера Ларкинза делается такое лицо, словно он встретился с неведомой доселе формой непредсказуемой и опасной жизни.
— Чем она решила протаранить ограду? — осторожно спрашивает он.
Каринка смотрит на него с жалостью. Вот ведь незамутнённый человек!
— Чем-чем! Собой.
И, тоже посчитав тему разговора исчерпанной, убегает спасать кавалера сердца Джорджа, которого переполненная любовью Эва вполне конкретно душит на свежеподстриженном газоне мисс Мёрфи.
У каждой феи есть крёстная. Эвина крёстная, как и полагается уважающей себя фее с армянскими корнями, живёт в Глендейле.
Эва периодически звонит ей, чтобы поговорить за жизнь.
— Ты мне настоящие крылья подаришь? — идёт напролом она.
— Зачем тебе настоящие крылья? Упадёшь ещё, поранишься! — волнуется крёстная.
— Кхм! — подаёт голос Каринка.
— Подарю, конечно! — спохватывается крёстная.
— А сама-то ты хоть летать умеешь? — волнуется Эва.
— Деточка, я вешу восемьдесят кило. Какие полёты?
— Кхм-кхм!
— Летаю, ага. Но только в шлеме и наколенниках!
Эва кладёт трубку.
— Мама, моя крёстная точно фея?
— Самая что ни на есть! Просто память у неё дырявая, никак не может этого запомнить!
(Роль крёстной феи исполняет моя бывшая однокурсница).
Вот уже три недели, как Эва ходит в садик. Потому утра Каринки наступают за час до звона будильника. Ровно в 7.00 (иногда и того раньше) её будит громкое дыхание дочери. При полном параде: крылья, корона и волшебная палочка, с красной пожарной машиной подмышкой, она стоит над матерью и сверлит ей переносицу укоризненным взглядом. Каринка сдаётся, когда от сопения дочери начинает опасно раскачиваться люстра на потолке. Со вздохом приоткрывает глаз.
— Юбзяк наположен! — рапортует на ломаном русском Эва, кивая на набитый доверху всякой грохочущей дребеденью свой рюкзак. — Вставай, горе, пора в садик!
— Рано ещё! — сопротивляется Каринка.
— Сказано вставай! И не забудь зубы почистить!
Через пятнадцать минут мать и дочь выходят из дому.
— Мама, а вот мисс Пердунья говорит, что я не на фею похожа, а на плюшку! — басит на всю Ховард-Стрит Эва, подпрыгивая так, чтобы крылья встали на место.
— Не Пердунья, а Петрунья! — поправляет Каринка, радуясь тому, что мисс Петрунья не знает русского.
— Ну ты ей скажи, что я всё-таки фея, — зудит Эва.
— Хорошо.
У Мисс Петруньи оливковая кожа и бурные золотистые кудряшки. Второй такой красавицы в Омахе нет.
— Доброе утро, я вам фею привела, — делает ей глазами Каринка.
— Хэллоу, Плюшка! — здоровается мисс Петрунья.
— У мисс Пердуньи тоже память дырявая, — удручённо констатирует Эва.
Трудно, очень трудно выживать маленьким феям в мире больших, дырявых на всю голову людей!
*
Друзья, Каринка открыла на etsy свою страничку. Показываю с огромной радостью и гордостью. Вдруг вам нужно подарить оригинальное, а вы не знаете, что придумать: https://www.etsy.com/shop/Abgaryan


Published on September 04, 2016 23:56
August 31, 2016
Дорогі мої! Щаслива повідомити, що «Манюня» вийшла україн...
Дорогі мої! Щаслива повідомити, що «Манюня» вийшла українською мовою. Видавець запевняє, що переклад кращий за оригінал. Це мене дуже тішить.
Такі ось радісні новини.
Дорогие мои! Счастлива сообщить, что «Манюня» вышла на украинском. Издатель уверяет, что перевод получился лучше оригинала. Чему я очень рада.
Такие вот счастливые новости.
Спасибо большое издательству «Махаон-Україна». И моему родному главреду Александру Прокоповичу -- за поддержку.
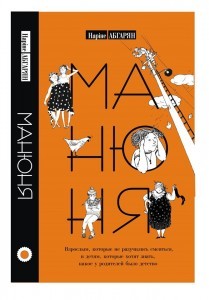
Такі ось радісні новини.
Дорогие мои! Счастлива сообщить, что «Манюня» вышла на украинском. Издатель уверяет, что перевод получился лучше оригинала. Чему я очень рада.
Такие вот счастливые новости.
Спасибо большое издательству «Махаон-Україна». И моему родному главреду Александру Прокоповичу -- за поддержку.
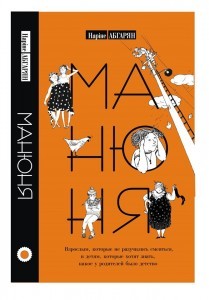
Published on August 31, 2016 11:21
August 26, 2016
Квартирная хозяйка тётя Поля рассказывала о своём муже: «...
Квартирная хозяйка тётя Поля рассказывала о своём муже: «Пил, как проклятый. Нажрётся, упадёт на пороге, я его волоком до кровати тащу. Клеёнку постелю, а толку ноль — всё равно обоссыт матрас и дрыхнет до утра. Ненавидела его лютой ненавистью. Но терпела. Когда заболел — ухаживала за ним до последнего. Перед смертью попросил положить в гроб бутылку водки. Я обещала. Однажды приснился: красивый, молодой, ясноглазый. Поля, говорит, ты не думай, всё у меня хорошо. Вот только бутылка на грудь давит, дышать не даёт».
Я тётю Полю часто вспоминаю. Она помогала мне пережить приступы паники, которые я заработала в войну. Накрыли они меня уже в Москве, спустя год после отъезда из Армении. Однажды я уронила на пол тяжёлый мельхиоровый поднос — звук от удара получился не очень громким, но отдалённо напоминающим звук взрыва. И в ту же секунду мне отключили воздух. Помню, как рухнула на пол, как больно ударилась локтем. Как лежала на спине — беспомощная, умирающая, как в окно влетела стая призрачных птиц, они подхватили лапками нити, что тянулись из моего сердца, и взмыли ввысь.
Умирать не страшно, не больно и не унизительно. Унизительно и страшно понимать, что это навсегда.
В тот день меня спасла тётя Поля. Ну как спасла — я очнулась оттого, что она гладила меня по лицу и шептала молитву: и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси, помози нам, помози.
Она помогла мне подняться, напоила сладким чаем, уложила в постель. Сидела рядом, пока я усну. А я ворочалась с боку на бок, вздыхала. Неожиданно для себя стала рассказывать о войне. Она слушала молча, вопросов не задавала.
А я всё рассказывала, не могла остановиться. Я почти год жила в далёком мирном городе. Где горячая еда и свет, где можно было мыться, не беспокоясь, что сейчас начнётся обстрел и воды не станет — совсем. Почти целый год я возводила по кирпичику себе новую жизнь. И в одночасье всё рухнуло. Война, оказывается, никуда не делась, она следовала за мной по пятам. Я ведь не боялась её, я честно старалась её не замечать. Когда в нашу пятиэтажку угодила бомба, я готовила зелёную фасоль. Высунулась в окно, убедилась, что разрушения небольшие — и вернулась к стряпне. Снаряды кругом падают, а я чеснок с солью взбиваю, потому что зелёную фасоль нужно есть, щедро поливая схтор-мацуном. Уезжала я от войны не потому, что испугалась, а потому, что устала. Но она настигла меня в Москве. И настигнет всюду, куда я уеду. Потому что она теперь — часть меня. Война — это я.
Тётя Поля выслушала меня, вздохнула. И рассказала о своём муже. Как он её мучил. Как безбожно пил. Как попросил положить в гроб бутылку водки. Как потом снился. И как она жалеет всю жизнь, что исполнила его последнее желание. «Дочка, у каждого своё испытание. У меня оно одно, у тебя — другое. Самое главное — не держать страх в себе. Ведь словами можно его заговаривать. Так что рассказывай о нём как можно чаще. И вообще, запомни для себя: не молчание золото, а слово. Потому что оно лечит».
Тёти Поли давно нет, а я всё заговариваю страх. Сначала заговаривала своему отражению в зеркале, потом — близким, когда они нашли в себе силы вспоминать о войне. Потом я принялась рассказывать о страхе в книгах. А потом придумала совсем невыносимую муку — решила написать рассказы о войне. О людях-калеках, таких, как я. Знали бы вы, до чего нас много.
Писать о войне тяжело и беспросветно, и когда становится совсем невмоготу — я звоню подругам.
— Давно мы, девочки, не встречались, — заявляю я.
— Давно, — соглашаются девочки. — Три дня назад — это ведь давно?
— Практически целая жизнь, — нагнетаю я.
— Пора куда-нибудь сходить, — сдаётся Маринка.
— Говно вопрос, — поддакивает Вика.
И девочки откладывают свои дела. И водят меня по Москве. Выискивают чудом уцелевшие старые дома — с заброшенными дворами, с хлопающими ставнями, с деревянными скрипучими порогами. Терпеливо ждут, пока я греюсь. Они знают — я умею греться только там, где застыло время.
Я намеренно тяну это старое, пахнущее портфелем за рупь двадцать пять время, мне хочется остаться там навсегда.
— Ужасный, да? — спрашиваю, тыча пальцем в аляповатый, чёрный от копоти гипсовый фонтан.
— Бесполезный и нелепый, как ты, — соглашается Вика.
И я не могу удержать смех.
Тётя Поля была права, слово действительно лечит. Порой совсем не важно, что оно означает. Главное, что обращено оно именно к тебе.
Я тётю Полю часто вспоминаю. Она помогала мне пережить приступы паники, которые я заработала в войну. Накрыли они меня уже в Москве, спустя год после отъезда из Армении. Однажды я уронила на пол тяжёлый мельхиоровый поднос — звук от удара получился не очень громким, но отдалённо напоминающим звук взрыва. И в ту же секунду мне отключили воздух. Помню, как рухнула на пол, как больно ударилась локтем. Как лежала на спине — беспомощная, умирающая, как в окно влетела стая призрачных птиц, они подхватили лапками нити, что тянулись из моего сердца, и взмыли ввысь.
Умирать не страшно, не больно и не унизительно. Унизительно и страшно понимать, что это навсегда.
В тот день меня спасла тётя Поля. Ну как спасла — я очнулась оттого, что она гладила меня по лицу и шептала молитву: и молим Тя и стеняще вопием Ти: спаси нас, спаси, помози нам, помози.
Она помогла мне подняться, напоила сладким чаем, уложила в постель. Сидела рядом, пока я усну. А я ворочалась с боку на бок, вздыхала. Неожиданно для себя стала рассказывать о войне. Она слушала молча, вопросов не задавала.
А я всё рассказывала, не могла остановиться. Я почти год жила в далёком мирном городе. Где горячая еда и свет, где можно было мыться, не беспокоясь, что сейчас начнётся обстрел и воды не станет — совсем. Почти целый год я возводила по кирпичику себе новую жизнь. И в одночасье всё рухнуло. Война, оказывается, никуда не делась, она следовала за мной по пятам. Я ведь не боялась её, я честно старалась её не замечать. Когда в нашу пятиэтажку угодила бомба, я готовила зелёную фасоль. Высунулась в окно, убедилась, что разрушения небольшие — и вернулась к стряпне. Снаряды кругом падают, а я чеснок с солью взбиваю, потому что зелёную фасоль нужно есть, щедро поливая схтор-мацуном. Уезжала я от войны не потому, что испугалась, а потому, что устала. Но она настигла меня в Москве. И настигнет всюду, куда я уеду. Потому что она теперь — часть меня. Война — это я.
Тётя Поля выслушала меня, вздохнула. И рассказала о своём муже. Как он её мучил. Как безбожно пил. Как попросил положить в гроб бутылку водки. Как потом снился. И как она жалеет всю жизнь, что исполнила его последнее желание. «Дочка, у каждого своё испытание. У меня оно одно, у тебя — другое. Самое главное — не держать страх в себе. Ведь словами можно его заговаривать. Так что рассказывай о нём как можно чаще. И вообще, запомни для себя: не молчание золото, а слово. Потому что оно лечит».
Тёти Поли давно нет, а я всё заговариваю страх. Сначала заговаривала своему отражению в зеркале, потом — близким, когда они нашли в себе силы вспоминать о войне. Потом я принялась рассказывать о страхе в книгах. А потом придумала совсем невыносимую муку — решила написать рассказы о войне. О людях-калеках, таких, как я. Знали бы вы, до чего нас много.
Писать о войне тяжело и беспросветно, и когда становится совсем невмоготу — я звоню подругам.
— Давно мы, девочки, не встречались, — заявляю я.
— Давно, — соглашаются девочки. — Три дня назад — это ведь давно?
— Практически целая жизнь, — нагнетаю я.
— Пора куда-нибудь сходить, — сдаётся Маринка.
— Говно вопрос, — поддакивает Вика.
И девочки откладывают свои дела. И водят меня по Москве. Выискивают чудом уцелевшие старые дома — с заброшенными дворами, с хлопающими ставнями, с деревянными скрипучими порогами. Терпеливо ждут, пока я греюсь. Они знают — я умею греться только там, где застыло время.
Я намеренно тяну это старое, пахнущее портфелем за рупь двадцать пять время, мне хочется остаться там навсегда.
— Ужасный, да? — спрашиваю, тыча пальцем в аляповатый, чёрный от копоти гипсовый фонтан.
— Бесполезный и нелепый, как ты, — соглашается Вика.
И я не могу удержать смех.
Тётя Поля была права, слово действительно лечит. Порой совсем не важно, что оно означает. Главное, что обращено оно именно к тебе.
Published on August 26, 2016 12:05
August 15, 2016
Стараюсь не вступать в так называемые срачи, но в этот ра...
Стараюсь не вступать в так называемые срачи, но в этот раз не удержусь, потому что дело касается перевода книги, которую я очень ждала.
Не раз и не два в постах друзей я натыкалась на достаточно оскорбительные высказывания в адрес людей, подписавших петицию против перевода Марии Спивак. Потому в первую очередь хочу заступиться за читателя. Дорогие критики, писатели и издатели, вы существуете благодаря читателю. Потому будьте добры относиться к нему с уважением. Называть шестьдесят тысяч людей массовыми подписантами безграмотных петиций не то что неправильно, а как-то даже неблагородно, что ли. Вы же не лапутяне какие-нибудь, а обычные человеки.
Петицию не подписывала, но я именно тот читатель, которому перевод Марии Спивак не нравится совсем. При всём уважении к Марии, махаоновский вариант Гарри Поттера мне, автору, имеющему дело со словом, кажется агрессивным, фамильярным и непрофессиональным. Росменовский, что греха таить, тоже плохой, но он хотя бы не заслоняет собой автора. В махаоновском же варианте Спивак так много, что текст кажется скорее пересказом произведения Роулинг, чем переводом.
Я попыталась поставить себя на место писателя, имена героев произведения которого, как мягко выразилась Катя Метелица, творчески переосмыслил переводчик. Представила, что в моей книге «С неба упали три яблока» деревня будет называться не Мараном, а Погребом, Севоянц Анатолию будут звать Анатолией Черновой, Кудаманц Василия — Василием Вернуобязательно, Шалваренц Ованеса — Ованесом Брюковым, да что там Ованесом — Иваном Брюковым, а Шлапканц Ясаман — Жасмин Шляпниковой. Ну а Ейбоганц Валинку, чтобы уважить армянского читателя, отныне будут звать Валинкой Вайасивацджан. И теперь, открыв мою, в общем-то, армянскую книжку, читатель наткнётся на такое: «В пятницу, сразу после заката, когда солнце, перевалившись через зенит, чинно покатилось к западному краю долины, Анатолия Чернова легла помирать». Я, как автор «Яблок», со всей ответственностью заявлю: если бы издатель попытался сотворить такое с рукописью, книжки бы просто не случилось. Никогда. По моему глубокому убеждению, имена героев и топонимы должны звучать так, какими их придумал автор. И вообще — слово должно звучать, а не пугать или расстраивать.
Обвинять Марию Спивак в качестве перевода неправильно и бессмысленно, она имеет право на своё видение. И потом, у её перевода есть не только противники, но и сторонники, которые отстаивают его ровно с тем же рвением, с каким ругают противники. Спрос должен быть с издательства, которое ведёт себя в данной ситуации крайне неосмотрительно, игнорируя мнение потенциального покупателя. На мой взгляд, единственно правильный выход из данной ситуации — выпуск серии книг о Гарри Поттере в двух переводах: скажем так, в классическом, и в переводе Спивак. И я очень надеюсь, что Махаон прислушается к мнению людей, которые любят, умеют и хотят читать. Нас, в общем, не так много и осталось. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: не станет нас — не будет и вас.
Не раз и не два в постах друзей я натыкалась на достаточно оскорбительные высказывания в адрес людей, подписавших петицию против перевода Марии Спивак. Потому в первую очередь хочу заступиться за читателя. Дорогие критики, писатели и издатели, вы существуете благодаря читателю. Потому будьте добры относиться к нему с уважением. Называть шестьдесят тысяч людей массовыми подписантами безграмотных петиций не то что неправильно, а как-то даже неблагородно, что ли. Вы же не лапутяне какие-нибудь, а обычные человеки.
Петицию не подписывала, но я именно тот читатель, которому перевод Марии Спивак не нравится совсем. При всём уважении к Марии, махаоновский вариант Гарри Поттера мне, автору, имеющему дело со словом, кажется агрессивным, фамильярным и непрофессиональным. Росменовский, что греха таить, тоже плохой, но он хотя бы не заслоняет собой автора. В махаоновском же варианте Спивак так много, что текст кажется скорее пересказом произведения Роулинг, чем переводом.
Я попыталась поставить себя на место писателя, имена героев произведения которого, как мягко выразилась Катя Метелица, творчески переосмыслил переводчик. Представила, что в моей книге «С неба упали три яблока» деревня будет называться не Мараном, а Погребом, Севоянц Анатолию будут звать Анатолией Черновой, Кудаманц Василия — Василием Вернуобязательно, Шалваренц Ованеса — Ованесом Брюковым, да что там Ованесом — Иваном Брюковым, а Шлапканц Ясаман — Жасмин Шляпниковой. Ну а Ейбоганц Валинку, чтобы уважить армянского читателя, отныне будут звать Валинкой Вайасивацджан. И теперь, открыв мою, в общем-то, армянскую книжку, читатель наткнётся на такое: «В пятницу, сразу после заката, когда солнце, перевалившись через зенит, чинно покатилось к западному краю долины, Анатолия Чернова легла помирать». Я, как автор «Яблок», со всей ответственностью заявлю: если бы издатель попытался сотворить такое с рукописью, книжки бы просто не случилось. Никогда. По моему глубокому убеждению, имена героев и топонимы должны звучать так, какими их придумал автор. И вообще — слово должно звучать, а не пугать или расстраивать.
Обвинять Марию Спивак в качестве перевода неправильно и бессмысленно, она имеет право на своё видение. И потом, у её перевода есть не только противники, но и сторонники, которые отстаивают его ровно с тем же рвением, с каким ругают противники. Спрос должен быть с издательства, которое ведёт себя в данной ситуации крайне неосмотрительно, игнорируя мнение потенциального покупателя. На мой взгляд, единственно правильный выход из данной ситуации — выпуск серии книг о Гарри Поттере в двух переводах: скажем так, в классическом, и в переводе Спивак. И я очень надеюсь, что Махаон прислушается к мнению людей, которые любят, умеют и хотят читать. Нас, в общем, не так много и осталось. И не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать: не станет нас — не будет и вас.
Published on August 15, 2016 20:03
Narine Abgaryan's Blog
- Narine Abgaryan's profile
- 966 followers
Narine Abgaryan isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



