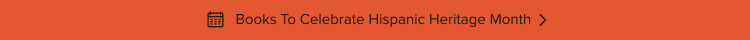Narine Abgaryan's Blog, page 10
September 10, 2018
Когда ты совсем маленький, и только-только учишься распоз...
Когда ты совсем маленький, и только-только учишься распознавать мир, красота не имеет имён и отличий: деревья одинаково никнут под дождем, цветы распускаются личиками навстречу солнцу, пахнет пряным свежескошенная трава, переливаются на сколе прохладными слезами камни.
Это уже потом, спустя время, тебе объяснят, что именно то дерево, под которым уснул и не проснулся дед Леван, называется грецким орехом. Дед Леван по старости забыл, что под ореховыми деревьями нельзя спать, они ведь поглощают очень много кислорода. Он прожил большую достойную жизнь, чередуя радость и печаль, строя каменный дом и собирая виноград, радуясь своим внукам и оплакивая своих сыновей, одного из которых забрала война, а другого — лавина в горах. Дед Леван сделал всё, чтобы поднять внуков, а когда совсем устал, присел отдохнуть под грецким орехом. Уснул — и не проснулся.
Не засыпай под дубами и буками. Под каштаном и фундуком не засыпай.
И к калине с осторожностью подходи. Не умеешь её распознать? Воооон тот пестролистый, обвешанный гроздьями прозрачных ягод кустарник. Осенью он окрасится в гранатовый красный, а листва покроется частой проседью. Превратится калина в рыжую веснушчатую старушку.
Помнишь Саломэ, которая ушла в прошлом году? Забыла наверное, тебе ведь всего пять, а в прошлом году вообще было три. Четыре говоришь было? Ишь, вылупилось яйцо, считать научилось!
Бедная, бедная Саломэ. Когда она стала путаться в именах и датах, мы решили, что память подводит. Когда стала спотыкаться на ровном месте — подумали, что ноги. Но однажды она не сумела подняться с постели, и пришлось везти её к врачу. Оказалось, что не память и ноги подводят, а нагрянула страшная болезнь. Врач рассказывал, что она скашивает именно рыжих людей. Потому чаще всего болеют ей в Ирландии и Шотландии, там у них все рыжие. Ну или почти все.
Как болезнь называется? Рассеянный склероз. Пусть провидение отведёт от тебя такую беду, бала джан.
Когда Саломэ совсем ослабла, мы с тобой ходили проведать её. Ты укладывалась рядом, подхватывала двумя пальцами тонкую кожу на тыльной стороне её ладони и играла в считалочку о мушмуле, которую поклевали воробьи. Бедная, бедная Саломэ. Пусть господь осветит её душу.
Только разговор ушёл в ненужную сторону, я-то хотела о другом. Так вот: к калине подходи с осторожностью, а лучше не подходи вовсе. Змеи любят отдыхать, свернувшись в её корнях калачиком. Калина — любимое их дерево. Почему? Да бог его знает почему. Любят и всё.
Ну про ель-то ты небось думаешь, что всё знаешь. И браслеты с ожерельями из иголок плести умеешь, и шишками все подоконники обложила — не пройти не проехать. И исхитрилась, продравшись сквозь колючие лапы, накарябать на стволе свои инициалы, пустая твоя головушка. А представь, если ночью в спальню проберётся ель и прочертит на твоём лбу свои инициалы! Понравится тебе? М? Конечно будешь молчать, сказать-то нечего! Дай приглажу волосы, а то носишься по двору чучелом, всех птиц распугала.
Так вот, про ель. Её, к примеру, нужно сажать в отдалении от фруктовых деревьев, чтоб она не попортила вкус плодов. Под ней, словно в погребе, можно хранить продукты — они не протухнут. Если обжёгся горячим питьём, нужно пожевать еловую иголку — она уймёт жжение. А если смолу перемешать с гусиным жиром, этой мазью можно лечить любые раны. Наша соседка Рипсимэ выходила так своего сына. Он на себя чан с горячим айвовым вареньем опрокинул, она его этой мазью густо обмазывала и оборачивала во влажные холодные пелёнки. Даже шрамов не осталось. Он ведь с рождения незрячим был. Рипсимэ плакала-плакала, сетовала на свою горькую судьбу, сына жалела. Когда он обварился, выходила его, выправила. И с того дня больше не плакала. Живой — и спасибо.
Когда тебе давно уже много лет, мир звучит именами тех, кто ушёл.
Грецкий орех навсегда остаётся деревом, под которым уснул и не проснулся старый дед Леван.
Под калиной, приобняв себя за колени, сидит рыжая и веснушчатая Саломэ, а в большом кармане её вышитого солнцем передника спят змеи. И крутится в голове бессмысленная считалочка: ծիվ, ծիվ, ծիվ, թըռռռ, տատունց կտուրը, քթոցը լիքը զկեռը...
А если, а если
А если залезть под ту самую бестолково вытянувшуюся на краю сада ель (сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком битая ветряной молью верхушка), лечь на спину и закрыть глаза, можно услышать голос Рипсимэ:
— Амирам, ай Амирам! Поднимайся на веранду, небо заволокло тучами, скоро дождь пойдёт. Не боишься промокнуть? И ладно, сыночек, сентябрь на дворе, вряд ли простудишься. Я тогда просто рядом посижу, зонтик над тобой подержу. Можно?
Это уже потом, спустя время, тебе объяснят, что именно то дерево, под которым уснул и не проснулся дед Леван, называется грецким орехом. Дед Леван по старости забыл, что под ореховыми деревьями нельзя спать, они ведь поглощают очень много кислорода. Он прожил большую достойную жизнь, чередуя радость и печаль, строя каменный дом и собирая виноград, радуясь своим внукам и оплакивая своих сыновей, одного из которых забрала война, а другого — лавина в горах. Дед Леван сделал всё, чтобы поднять внуков, а когда совсем устал, присел отдохнуть под грецким орехом. Уснул — и не проснулся.
Не засыпай под дубами и буками. Под каштаном и фундуком не засыпай.
И к калине с осторожностью подходи. Не умеешь её распознать? Воооон тот пестролистый, обвешанный гроздьями прозрачных ягод кустарник. Осенью он окрасится в гранатовый красный, а листва покроется частой проседью. Превратится калина в рыжую веснушчатую старушку.
Помнишь Саломэ, которая ушла в прошлом году? Забыла наверное, тебе ведь всего пять, а в прошлом году вообще было три. Четыре говоришь было? Ишь, вылупилось яйцо, считать научилось!
Бедная, бедная Саломэ. Когда она стала путаться в именах и датах, мы решили, что память подводит. Когда стала спотыкаться на ровном месте — подумали, что ноги. Но однажды она не сумела подняться с постели, и пришлось везти её к врачу. Оказалось, что не память и ноги подводят, а нагрянула страшная болезнь. Врач рассказывал, что она скашивает именно рыжих людей. Потому чаще всего болеют ей в Ирландии и Шотландии, там у них все рыжие. Ну или почти все.
Как болезнь называется? Рассеянный склероз. Пусть провидение отведёт от тебя такую беду, бала джан.
Когда Саломэ совсем ослабла, мы с тобой ходили проведать её. Ты укладывалась рядом, подхватывала двумя пальцами тонкую кожу на тыльной стороне её ладони и играла в считалочку о мушмуле, которую поклевали воробьи. Бедная, бедная Саломэ. Пусть господь осветит её душу.
Только разговор ушёл в ненужную сторону, я-то хотела о другом. Так вот: к калине подходи с осторожностью, а лучше не подходи вовсе. Змеи любят отдыхать, свернувшись в её корнях калачиком. Калина — любимое их дерево. Почему? Да бог его знает почему. Любят и всё.
Ну про ель-то ты небось думаешь, что всё знаешь. И браслеты с ожерельями из иголок плести умеешь, и шишками все подоконники обложила — не пройти не проехать. И исхитрилась, продравшись сквозь колючие лапы, накарябать на стволе свои инициалы, пустая твоя головушка. А представь, если ночью в спальню проберётся ель и прочертит на твоём лбу свои инициалы! Понравится тебе? М? Конечно будешь молчать, сказать-то нечего! Дай приглажу волосы, а то носишься по двору чучелом, всех птиц распугала.
Так вот, про ель. Её, к примеру, нужно сажать в отдалении от фруктовых деревьев, чтоб она не попортила вкус плодов. Под ней, словно в погребе, можно хранить продукты — они не протухнут. Если обжёгся горячим питьём, нужно пожевать еловую иголку — она уймёт жжение. А если смолу перемешать с гусиным жиром, этой мазью можно лечить любые раны. Наша соседка Рипсимэ выходила так своего сына. Он на себя чан с горячим айвовым вареньем опрокинул, она его этой мазью густо обмазывала и оборачивала во влажные холодные пелёнки. Даже шрамов не осталось. Он ведь с рождения незрячим был. Рипсимэ плакала-плакала, сетовала на свою горькую судьбу, сына жалела. Когда он обварился, выходила его, выправила. И с того дня больше не плакала. Живой — и спасибо.
Когда тебе давно уже много лет, мир звучит именами тех, кто ушёл.
Грецкий орех навсегда остаётся деревом, под которым уснул и не проснулся старый дед Леван.
Под калиной, приобняв себя за колени, сидит рыжая и веснушчатая Саломэ, а в большом кармане её вышитого солнцем передника спят змеи. И крутится в голове бессмысленная считалочка: ծիվ, ծիվ, ծիվ, թըռռռ, տատունց կտուրը, քթոցը լիքը զկեռը...
А если, а если
А если залезть под ту самую бестолково вытянувшуюся на краю сада ель (сучковатый ствол, ржавая шелуха веток, согнутая крючком битая ветряной молью верхушка), лечь на спину и закрыть глаза, можно услышать голос Рипсимэ:
— Амирам, ай Амирам! Поднимайся на веранду, небо заволокло тучами, скоро дождь пойдёт. Не боишься промокнуть? И ладно, сыночек, сентябрь на дворе, вряд ли простудишься. Я тогда просто рядом посижу, зонтик над тобой подержу. Можно?
Published on September 10, 2018 12:58
August 27, 2018
Какое это счастье — дожить до того дня, когда можно обсуж...
Какое это счастье — дожить до того дня, когда можно обсуждать со своим ребёнком всё, совсем всё — не кривя душой и не боясь признаваться в своих ошибках.
Одно время я ему говорила — сыночек, я всегда пойму и поддержу тебя. Теперь он мне это говорит.
Перекличка лета:
— Я у тебя есть.
— И я у тебя есть.
Наблюдаем за стрижами, которые, сбившись в плотную стаю, кружат над остановкой. Рассказываю, как дед переживал, что длиннокрылые ласточки улетели раньше, чем положено.
— Обычно они собираются на юг во вторую неделю августа, а в этом году в конце июля улетели.
— Почему?
— Кто бы знал.
Помолчали.
— Грустно, сынок. Лето уходит.
— Помнишь, как в «Молодости» Соррентино отёчный, задыхающийся, подключённый к кислородному баллону мужчина на вопрос «о чём ты думаешь» отвечает — о будущем.
— Помню.
— Ну вот. А ты грустишь.
— Не буду.
Гуляли по Старому Арбату. Зашли к Маринке, напугали её своими габаритами. На прощание она назвала Эмиля маленьким, привстала на цыпочки и погладила его по бородатой щеке.
У меня лучшие в мире подруги.
Часто принимают его за моего мужа. Что поделаешь, мужчины в нашем роду всегда выглядели старше своего возраста. Эмиль отшучивается:
— Мам, всё дело в залысинах. Вот если бы у тебя они тоже были, люди сразу бы понимали, что ты — моя мать!
Сходили на новый фильм Серебренникова. Ушли счастливые.
«Лето» — лучший фильм лета.
Смешно оговорились — наветы Ильича.
Оттаскивали друг друга от ларёчков с книгами.
— Там Фриш!
— Зачем тебе Фриш, если ты мимо Соловьёва прошла!
Так и не купили. Да и зачем нам Фриш и Соловьев, когда они у нас уже есть!
— Какие девушки тебе нравятся?
— Легче сказать какие не нравятся!
— Какие не нравятся?
— Глупые.
— Тогда ладно.
— Угадай кто будет Ба в спектакле играть!
— Сталин?
Рассказываю о Москве 90-х. Как на лавочке у многоквартирного дома на Кировоградской сидели две благообразные старушки. Одна другой с апломбом, вздрагивая нарисованными бровями, рассказывала:
— К «Фейри» у меня претензий нет. А вот «Комет» разочаровал.
— Жируешь, Матвеевна, — поджала губы вторая.
Первая оскорбилась и ушла, демонстративно громко хлопнув дверью.
— «Комет» её, бл.дь, разочаровал, — крикнула ей вдогонку вторая.
Эмиль подытоживает:
— Прямо диалог Карякина с Некрасовым!
— Знаешь как бы звали твою подругу Сильвию в Берде?
— Сильвестр?
— В канадских библиотеках можно взять не только книгу или фильм, но и, например, дрель.
— Взяла?
— Нет.
— Жаль. С дрелью ты бы весила как нормальный человек!
— Москве август к лицу.
— Какой ты молодец, умеешь в три слова красоту передать.
— Я и в одно могу, но ты вряд ли это одобришь!
Изучаем меню. Интересуюсь у хорошенькой официантки:
— Извините, а что такое «LV»?
— Латте, ванильный.
— Надо же, никогда бы не подумала!
— Ну не Луи же Вюиттон!
Девушка давится смехом.
— Это мой сын, — на всякий случай уточняю я.
— А я подумала — муж! — утирает слёзы она.
— Всё дело в залысинах, — начинает Эмиль.
— Если бы они у мамы были! — подхватывает девушка.
Надоумила обменяться телефонами. Дураки, говорю, молодые, не понимаете какое это счастье — совпасть с человеком в чувстве юмора.
— Всё имеет смысл, пока ты живой, — повторяю запавшую в душу фразу, услышанную в Корее.
Эмиль вздыхает.
Их было четыре друга. Прошлое лето забрало одного. Внезапная остановка сердца, не успели спасти. Прошёл год, но мы так и не научились снова выговаривать его имя.
— А помнишь, какие он стихи писал…
— А помнишь, как он улыбался — одними глазами…
— А помнишь…
— А помнишь…
Милый мальчик, чудесный друг. Пусть там, где ты сейчас, тебе будет легко и светло. Мы тебя любим, мы тебя помним.
Бабушка Тата, обнимая внуков и целуя их в солнечные макушки, шептала: Аствац джан, не посчитай мое счастье излишним!
Не посчитай и моё счастье излишним, Аствац джан.
Послушаться Сашу Цыпкина, однажды сломать четвертую стену и вернуться в тот август, где мне сорок семь, сыну — двадцать два. И остаться там навсегда.
Одно время я ему говорила — сыночек, я всегда пойму и поддержу тебя. Теперь он мне это говорит.
Перекличка лета:
— Я у тебя есть.
— И я у тебя есть.
Наблюдаем за стрижами, которые, сбившись в плотную стаю, кружат над остановкой. Рассказываю, как дед переживал, что длиннокрылые ласточки улетели раньше, чем положено.
— Обычно они собираются на юг во вторую неделю августа, а в этом году в конце июля улетели.
— Почему?
— Кто бы знал.
Помолчали.
— Грустно, сынок. Лето уходит.
— Помнишь, как в «Молодости» Соррентино отёчный, задыхающийся, подключённый к кислородному баллону мужчина на вопрос «о чём ты думаешь» отвечает — о будущем.
— Помню.
— Ну вот. А ты грустишь.
— Не буду.
Гуляли по Старому Арбату. Зашли к Маринке, напугали её своими габаритами. На прощание она назвала Эмиля маленьким, привстала на цыпочки и погладила его по бородатой щеке.
У меня лучшие в мире подруги.
Часто принимают его за моего мужа. Что поделаешь, мужчины в нашем роду всегда выглядели старше своего возраста. Эмиль отшучивается:
— Мам, всё дело в залысинах. Вот если бы у тебя они тоже были, люди сразу бы понимали, что ты — моя мать!
Сходили на новый фильм Серебренникова. Ушли счастливые.
«Лето» — лучший фильм лета.
Смешно оговорились — наветы Ильича.
Оттаскивали друг друга от ларёчков с книгами.
— Там Фриш!
— Зачем тебе Фриш, если ты мимо Соловьёва прошла!
Так и не купили. Да и зачем нам Фриш и Соловьев, когда они у нас уже есть!
— Какие девушки тебе нравятся?
— Легче сказать какие не нравятся!
— Какие не нравятся?
— Глупые.
— Тогда ладно.
— Угадай кто будет Ба в спектакле играть!
— Сталин?
Рассказываю о Москве 90-х. Как на лавочке у многоквартирного дома на Кировоградской сидели две благообразные старушки. Одна другой с апломбом, вздрагивая нарисованными бровями, рассказывала:
— К «Фейри» у меня претензий нет. А вот «Комет» разочаровал.
— Жируешь, Матвеевна, — поджала губы вторая.
Первая оскорбилась и ушла, демонстративно громко хлопнув дверью.
— «Комет» её, бл.дь, разочаровал, — крикнула ей вдогонку вторая.
Эмиль подытоживает:
— Прямо диалог Карякина с Некрасовым!
— Знаешь как бы звали твою подругу Сильвию в Берде?
— Сильвестр?
— В канадских библиотеках можно взять не только книгу или фильм, но и, например, дрель.
— Взяла?
— Нет.
— Жаль. С дрелью ты бы весила как нормальный человек!
— Москве август к лицу.
— Какой ты молодец, умеешь в три слова красоту передать.
— Я и в одно могу, но ты вряд ли это одобришь!
Изучаем меню. Интересуюсь у хорошенькой официантки:
— Извините, а что такое «LV»?
— Латте, ванильный.
— Надо же, никогда бы не подумала!
— Ну не Луи же Вюиттон!
Девушка давится смехом.
— Это мой сын, — на всякий случай уточняю я.
— А я подумала — муж! — утирает слёзы она.
— Всё дело в залысинах, — начинает Эмиль.
— Если бы они у мамы были! — подхватывает девушка.
Надоумила обменяться телефонами. Дураки, говорю, молодые, не понимаете какое это счастье — совпасть с человеком в чувстве юмора.
— Всё имеет смысл, пока ты живой, — повторяю запавшую в душу фразу, услышанную в Корее.
Эмиль вздыхает.
Их было четыре друга. Прошлое лето забрало одного. Внезапная остановка сердца, не успели спасти. Прошёл год, но мы так и не научились снова выговаривать его имя.
— А помнишь, какие он стихи писал…
— А помнишь, как он улыбался — одними глазами…
— А помнишь…
— А помнишь…
Милый мальчик, чудесный друг. Пусть там, где ты сейчас, тебе будет легко и светло. Мы тебя любим, мы тебя помним.
Бабушка Тата, обнимая внуков и целуя их в солнечные макушки, шептала: Аствац джан, не посчитай мое счастье излишним!
Не посчитай и моё счастье излишним, Аствац джан.
Послушаться Сашу Цыпкина, однажды сломать четвертую стену и вернуться в тот август, где мне сорок семь, сыну — двадцать два. И остаться там навсегда.
Published on August 27, 2018 10:58
August 6, 2018
Июль выдался сумасшедшим: тур в Армению, и сразу же следо...
Июль выдался сумасшедшим: тур в Армению, и сразу же следом — тур в Грузию. Спасибо моим чудесным группам, с вами было весело, душекомфортно и прекрасно.
Когда произведут все переводы и Фонд "Созидание" оплатит лечение наших подопечных, я обязательно вывешу отчётный пост.
А пока "Клуб Путешествий Михаила Кожухова" планирует последний в этом году благотворительный тур со мной — на сбор винограда в Армению. В группе осталось пять мест. Приглашаем сильных духом людей, умеющих искромётно шутить, безудержно смеяться, радоваться красоте и не умереть от того количества вкусной еды, которой традиционно пытают туристов в Закавказье.
До встречи, до солнца, вина, ветра и счастья!
Ссылка на тур: https://goo.gl/HrtCBA
На все вопросы ответит менеджер клуба Эльвира, её данные указаны на странице поездки.
Когда произведут все переводы и Фонд "Созидание" оплатит лечение наших подопечных, я обязательно вывешу отчётный пост.
А пока "Клуб Путешествий Михаила Кожухова" планирует последний в этом году благотворительный тур со мной — на сбор винограда в Армению. В группе осталось пять мест. Приглашаем сильных духом людей, умеющих искромётно шутить, безудержно смеяться, радоваться красоте и не умереть от того количества вкусной еды, которой традиционно пытают туристов в Закавказье.
До встречи, до солнца, вина, ветра и счастья!
Ссылка на тур: https://goo.gl/HrtCBA
На все вопросы ответит менеджер клуба Эльвира, её данные указаны на странице поездки.
Published on August 06, 2018 23:38
August 2, 2018
В тбилисском аэропорту шумно и суетно. К паспортному конт...
В тбилисском аэропорту шумно и суетно. К паспортному контролю змеится длинная очередь. Пристраиваюсь в конец, готовлюсь к долгому ожиданию. Предаюсь привычному занятию — наблюдаю людей. В аэропортах они читаются особенно легко, может быть потому, что за занятостью не считают нужным прятаться за масками.
Пятилетний мальчик натягивает на плечи рюкзак вверх тормашками.
— Переверни, — подсказывает мать.
— Не буду! — хмурится мальчик и упрямо надевает рюкзак наоборот.
— Неудобно же! — вмешивается дед.
— Отстаньте!
Мать с дедом переглядываются, прячут улыбки. Мальчик сопит. Повозившись, со вздохом переодевает рюкзак. Поднимает глаза, бубнит примирительно:
— Деда, а деда. Поиграем?
Дед с готовностью выставляет кулак. Декламируют хором:
— Камень-ножницы-бумага…
Две сестры, та, которая постарше — строгая и сосредоточенная молчунья. Другая — легкомысленная и щебетливая хохотушка.
— У нас уйма времени, пойдём мне очки смотреть?
— Зачем тебе ещё одни очки?
— Для счастья!
Старшая смотрит на младшую долгим задумчивым взглядом, та строит ей смешную рожицу.
— Я за это «Триумфальную арку» дочитаю. Обещаю.
— Не дочитаешь.
— Не дочитаю, ага.
Очередь продвигается на пролёт, поворачивается ко мне другим боком. И я вижу женщину. Она рыдает — навзрыд и безутешно. Не пряча лица, стирая бесконечные слёзы ладонями. Поминутно привстаёт на цыпочки, высматривает среди провожающих кого-то. На последнем витке, когда вот-вот уходить, она внезапно расталкивает людей, пробирается к разделяющей ленте. С той стороны к ней подходит мужчина. Она подставляет ему лицо. Он целует её в мокрые глаза, в безвольные губы, в лёгкие каштановые волосы — она заколола их на затылке, он пытается заправить выбившиеся пряди, терпит неудачу, смущённо улыбается, шепчет какие-то слова. Она напряжённо слушает, молчит. Неимоверным усилием отрывается от него. Он надевает тёмные очки. Она протягивает билет и паспорт сотруднику аэропорта, уходит, не оборачиваясь. Удостоверившись, что она его не видит, он резко нагибается, упирается ладонями в колени. Очки падают, он их не поднимает, утирает слёзы. Уходит, очки так и остаются лежать на полу.
За стеклянными стенами — изнурённый зноем город. Он не похож ни на один другой, он совсем особенный и по-своему родной. Там я мгновенно оказываюсь в пространстве, где когда-то, может быть, жила. Беспомощная в незнакомых городах, там я без труда нахожу нужные мне дома, легко выпутываюсь из бескрайнего лабиринта улочек, распознаю незнакомую мне, но удивительно понятную речь, пригоршнями черпая из неё ясные с детства слова: режани, шушабанди, гижи, дарбази… Ранним утром этот город пахнет пшеничной мукой и бездомными котами. Поздним вечером — перегретым на солнце медяками, бездвижной рекой и густым янтарным вином.
В день расставания он задумчив и молчалив. На прощание обязательно подсовывает картинки, которые всегда будут с тобой. Мальчик с надетым вверх тормашками рюкзаком. Две прекрасные сестры. И мужчина с женщиной — обоим сильно за пятьдесят, а может и за шестьдесят — сложно распознать возраст влюблённых. Они так и стоят, обнявшись, в тбилисском аэропорту. У неё бледные губы и прозрачные глаза. У него трёхдневная колючая щетина и белёсый шрам на левой руке.
Любовь всюду и везде. Всюду и везде.
Пятилетний мальчик натягивает на плечи рюкзак вверх тормашками.
— Переверни, — подсказывает мать.
— Не буду! — хмурится мальчик и упрямо надевает рюкзак наоборот.
— Неудобно же! — вмешивается дед.
— Отстаньте!
Мать с дедом переглядываются, прячут улыбки. Мальчик сопит. Повозившись, со вздохом переодевает рюкзак. Поднимает глаза, бубнит примирительно:
— Деда, а деда. Поиграем?
Дед с готовностью выставляет кулак. Декламируют хором:
— Камень-ножницы-бумага…
Две сестры, та, которая постарше — строгая и сосредоточенная молчунья. Другая — легкомысленная и щебетливая хохотушка.
— У нас уйма времени, пойдём мне очки смотреть?
— Зачем тебе ещё одни очки?
— Для счастья!
Старшая смотрит на младшую долгим задумчивым взглядом, та строит ей смешную рожицу.
— Я за это «Триумфальную арку» дочитаю. Обещаю.
— Не дочитаешь.
— Не дочитаю, ага.
Очередь продвигается на пролёт, поворачивается ко мне другим боком. И я вижу женщину. Она рыдает — навзрыд и безутешно. Не пряча лица, стирая бесконечные слёзы ладонями. Поминутно привстаёт на цыпочки, высматривает среди провожающих кого-то. На последнем витке, когда вот-вот уходить, она внезапно расталкивает людей, пробирается к разделяющей ленте. С той стороны к ней подходит мужчина. Она подставляет ему лицо. Он целует её в мокрые глаза, в безвольные губы, в лёгкие каштановые волосы — она заколола их на затылке, он пытается заправить выбившиеся пряди, терпит неудачу, смущённо улыбается, шепчет какие-то слова. Она напряжённо слушает, молчит. Неимоверным усилием отрывается от него. Он надевает тёмные очки. Она протягивает билет и паспорт сотруднику аэропорта, уходит, не оборачиваясь. Удостоверившись, что она его не видит, он резко нагибается, упирается ладонями в колени. Очки падают, он их не поднимает, утирает слёзы. Уходит, очки так и остаются лежать на полу.
За стеклянными стенами — изнурённый зноем город. Он не похож ни на один другой, он совсем особенный и по-своему родной. Там я мгновенно оказываюсь в пространстве, где когда-то, может быть, жила. Беспомощная в незнакомых городах, там я без труда нахожу нужные мне дома, легко выпутываюсь из бескрайнего лабиринта улочек, распознаю незнакомую мне, но удивительно понятную речь, пригоршнями черпая из неё ясные с детства слова: режани, шушабанди, гижи, дарбази… Ранним утром этот город пахнет пшеничной мукой и бездомными котами. Поздним вечером — перегретым на солнце медяками, бездвижной рекой и густым янтарным вином.
В день расставания он задумчив и молчалив. На прощание обязательно подсовывает картинки, которые всегда будут с тобой. Мальчик с надетым вверх тормашками рюкзаком. Две прекрасные сестры. И мужчина с женщиной — обоим сильно за пятьдесят, а может и за шестьдесят — сложно распознать возраст влюблённых. Они так и стоят, обнявшись, в тбилисском аэропорту. У неё бледные губы и прозрачные глаза. У него трёхдневная колючая щетина и белёсый шрам на левой руке.
Любовь всюду и везде. Всюду и везде.
Published on August 02, 2018 00:10
July 21, 2018
Сегодня в Берде справляют Вардавар. Остальная Армения отм...
Сегодня в Берде справляют Вардавар. Остальная Армения отмечает день поливания по указке церкви, прибравшей к рукам языческие праздники, а мы — по старинке. Но если вы вдруг сделали поспешный вывод, что бердцы — последний бастион сопротивления, то я должна вас разочаровать. В нашем Тавушском районе есть деревня Айгедзор, где справляют Вардавар спустя две недели после нас. Так что оставь надежду всяк сюда входящий. Нам, корифеям упрямства, никто не указ. Даже церковь.
Вчера в Берде стояла классическая предновогодняя лихорадка. Люди закупались продуктами, пекли гату и сали, запасались сырами, хлебом и спиртным. Сегодня грядут большие гулянья — с шашлыком и хашламой, с печёными на большом огне овощами, со всяким обильным десертом под заваренный на остывающей золе густой кофе. Настоящий Вардавар именно такой — сытный, обильный, многолюдно-шумный, обязательно пикничный. Вардавар — проводы зноя.
В преддверии праздника была покусана осой. В лоб. Притом не то чтобы сильно к этому стремилась. Сидела посреди родительского огорода, любовалась закатом. И тут на меня напала оса.
— Радуйся, что не в нос укусила, — утешил папа, промывая мне лоб ледяной водой.
— А в нос что, смертельно?
— В твой — смертельно!
Рассматривая свой покусанный лоб в зеркало, сделала открытие: укус осы — это бюджетный вариант ботокса. И наркоза. Лицо до подбородка теряет чувствительность, можно шиферные гвозди им забивать. А морщинки сглаживаются. Лепота!
Не успела отойти от укуса, как из-под калины выполз поздороваться большой, вполне упитанный уж. А мимо нашего огорода, в сопровождении старенького пастуха и шерстяного алабая, проходило небольшое стадо (пять коров, телёнок с лежащей на белесых ресницах чёлкой, желтоглазая коза и три трепетные овцы). И все они в большом удивлении наблюдали, как, перепрыгивая через кустики огурцов, я мечусь зигзагами по грядкам.
— Доктор джан, это та самая наша девочка, которая писатель? — дождавшись, когда я угомонюсь в подсобке для садового инструмента, полюбопытствовал пастух.
— Она! — отвёл глаза папа.
— Вот до чего большой город людей доводит! — цокнул языком пастух, и, покачав головой, погнал стадо дальше.
— Ай балам, зачем ты ужа боишься, он ведь не ядовитый! — отчитывал меня папа.
— Откуда мне знать, что это уж!
— Так у него хвост толстый и морда большая. А у ядовитой змеи хвост тоненький и головка приплюснутая!
— Пап! Как можно в состоянии аффекта изучать внешность змеи?
— Могла бы ради разнообразия хоть иногда из этого состояния выходить!
Ранним вардаварским утром заглянул Рубик по прозвищу Альцгеймер, принёс тазик малины.
— Почему у него такое прозвище? Болеет? — расстроилась я.
— Типун тебе на язык! Человек со странностями, вот и зовут его Альцгеймер.
— А если человек без странностей, прозвище ему придумывают?
— Не знаю, нормальных людей не держим.
Соседка, изучая мой лоб:
— Самое лучше средство от укусов и всяких высыпаний — сера.
— Только где мне её раздобыть?
— Как где? В собственном ухе.
Нормальных людей действительно не держим.
Под покровом ночи старательно вывешиваю стирку. Как оно у нас заведено — по ранжиру, по цвету. Выбираю одинаковые прищепки, соблюдаю расстояние в сантиметр. Дождавшись, когда неуёмная дочь уляжется, мама украдкой перевешивает бельё. Так и представила расстроенные возгласы бердцев, изучающих мою коряво вывешенную стирку:
— Вот до чего большой город людей доводит!
Спина лета сломалась.
С закатом заводит грустную песню сова-сплюшка — сплюююю, сплююю. Ей вторит полевой сверчок — плююю, плююю. Ночи, растеряв свою быстрокрылую стремительность, тянутся теперь неспешным улиточьим шагом. Звёзды опустились к самой земле — хоть на каждой сооружай качели, и, отталкиваясь от пологих крыш, раскачивайся до первой росы. Ближе к рассвету проснутся небесные великаны, выгонят на выпас облачное стадо, выпустят из кувшинов северные ветра, запрягут солнечную колесницу волами — навстречу новому дню. Сегодня у нас Вардавар. Завтра люди будут говорить — спина лета сломалась, только не грусти. У волка грусти, у медведя грусти, у филина грусти, а у тебя не грусти. Впереди озарённый цикадным пением август, остывающий от зноя милосердный сентябрь, лоскутный октябрь, бессребреник ноябрь. Впереди жизнь.
Вчера в Берде стояла классическая предновогодняя лихорадка. Люди закупались продуктами, пекли гату и сали, запасались сырами, хлебом и спиртным. Сегодня грядут большие гулянья — с шашлыком и хашламой, с печёными на большом огне овощами, со всяким обильным десертом под заваренный на остывающей золе густой кофе. Настоящий Вардавар именно такой — сытный, обильный, многолюдно-шумный, обязательно пикничный. Вардавар — проводы зноя.
В преддверии праздника была покусана осой. В лоб. Притом не то чтобы сильно к этому стремилась. Сидела посреди родительского огорода, любовалась закатом. И тут на меня напала оса.
— Радуйся, что не в нос укусила, — утешил папа, промывая мне лоб ледяной водой.
— А в нос что, смертельно?
— В твой — смертельно!
Рассматривая свой покусанный лоб в зеркало, сделала открытие: укус осы — это бюджетный вариант ботокса. И наркоза. Лицо до подбородка теряет чувствительность, можно шиферные гвозди им забивать. А морщинки сглаживаются. Лепота!
Не успела отойти от укуса, как из-под калины выполз поздороваться большой, вполне упитанный уж. А мимо нашего огорода, в сопровождении старенького пастуха и шерстяного алабая, проходило небольшое стадо (пять коров, телёнок с лежащей на белесых ресницах чёлкой, желтоглазая коза и три трепетные овцы). И все они в большом удивлении наблюдали, как, перепрыгивая через кустики огурцов, я мечусь зигзагами по грядкам.
— Доктор джан, это та самая наша девочка, которая писатель? — дождавшись, когда я угомонюсь в подсобке для садового инструмента, полюбопытствовал пастух.
— Она! — отвёл глаза папа.
— Вот до чего большой город людей доводит! — цокнул языком пастух, и, покачав головой, погнал стадо дальше.
— Ай балам, зачем ты ужа боишься, он ведь не ядовитый! — отчитывал меня папа.
— Откуда мне знать, что это уж!
— Так у него хвост толстый и морда большая. А у ядовитой змеи хвост тоненький и головка приплюснутая!
— Пап! Как можно в состоянии аффекта изучать внешность змеи?
— Могла бы ради разнообразия хоть иногда из этого состояния выходить!
Ранним вардаварским утром заглянул Рубик по прозвищу Альцгеймер, принёс тазик малины.
— Почему у него такое прозвище? Болеет? — расстроилась я.
— Типун тебе на язык! Человек со странностями, вот и зовут его Альцгеймер.
— А если человек без странностей, прозвище ему придумывают?
— Не знаю, нормальных людей не держим.
Соседка, изучая мой лоб:
— Самое лучше средство от укусов и всяких высыпаний — сера.
— Только где мне её раздобыть?
— Как где? В собственном ухе.
Нормальных людей действительно не держим.
Под покровом ночи старательно вывешиваю стирку. Как оно у нас заведено — по ранжиру, по цвету. Выбираю одинаковые прищепки, соблюдаю расстояние в сантиметр. Дождавшись, когда неуёмная дочь уляжется, мама украдкой перевешивает бельё. Так и представила расстроенные возгласы бердцев, изучающих мою коряво вывешенную стирку:
— Вот до чего большой город людей доводит!
Спина лета сломалась.
С закатом заводит грустную песню сова-сплюшка — сплюююю, сплююю. Ей вторит полевой сверчок — плююю, плююю. Ночи, растеряв свою быстрокрылую стремительность, тянутся теперь неспешным улиточьим шагом. Звёзды опустились к самой земле — хоть на каждой сооружай качели, и, отталкиваясь от пологих крыш, раскачивайся до первой росы. Ближе к рассвету проснутся небесные великаны, выгонят на выпас облачное стадо, выпустят из кувшинов северные ветра, запрягут солнечную колесницу волами — навстречу новому дню. Сегодня у нас Вардавар. Завтра люди будут говорить — спина лета сломалась, только не грусти. У волка грусти, у медведя грусти, у филина грусти, а у тебя не грусти. Впереди озарённый цикадным пением август, остывающий от зноя милосердный сентябрь, лоскутный октябрь, бессребреник ноябрь. Впереди жизнь.
Published on July 21, 2018 23:56
July 11, 2018
Всё, что есть у меня на душе — забытые вещи. Серебряное к...
Всё, что есть у меня на душе — забытые вещи. Серебряное кольцо в аэропорту Бостона. Утром я попрощалась с сестрой и племянницей, а потом наблюдала, как они, неумолимо уменьшаясь, уходят по длинной узкой улочке. Эва смешно подпрыгивала, поминутно поправляла лямку рюкзака на плече, чего-то щебетала, Каринка ступала слишком прямо, несвойственным себе осторожным шагом, словно нашаривая дорогу в темноте, и я точно знала, что она плачет. Плакала и я, глупо и навзрыд, как умеют плакать только дети, несправедливо лишённые обещанного подарка. В самолёте обнаружила, что забыла кольцо в аэропорту. Сняла, чтоб не намочить, и оставила на краю раковины. Расстроилась так, что рассказала об этом на своём ломаном английском сидящему рядом пожилому мужчине.
— Вы потеряли его в городе, где живёт ваша сестра, — чуть поразмыслив, сказал он. — Теперь, где бы кольцо ни оказалось, оно будет охранять её.
И я сразу ему поверила.
Всё, что есть у меня на душе — обереги.
— Это тебе, — Вика протягивает странной формы камень с круглой дырочкой в сердцевине, — он последний, остальные уже использованы.
Я перекатываю на ладони тёмный, в рыжих подпалинах, продолговатый камушек. Смотрю вопросительно. Вика вздыхает. Она из тех людей, для которых каждое слово — пытка.
— Один мой знакомый ездил в горы. Сорвался в ущелье, зацепился за корень дерева, росшего на краю. Этот корень пробил камни, они на нём и висели, как бусы. Он их собрал.
Вика умолкает. Я долго греюсь о камушек. Наконец отваживаюсь на вопрос:
— Что с ним нужно делать?
— Нужно встать спиной к реке, загадать желание и бросить его в воду. Обязательно правой рукой. Сделаешь?
Кроме камушка Вика вручает мне каштан, который на самом деле зелёный, хотя и кажется коричневым (мало кому дано угадать, что он зелёный). И крохотный серебряный кулон: крылатый ангел с посохом.
Камушек давно покоится на дне нашей бердской речки. Каштан всё так же притворяется коричневым, хотя я не сомневаюсь, что на самом деле он зелёный. Ангел с посохом теперь всегда со мной — после того, как Вика его подарила, я много путешествую.
Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе нарисовала. Каждый привносил то, чего так не хватало мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счёту, я — результат их стараний. Их бледная тень.
Недавно смотрела интервью Киры Прошутинской с Алёной Хмельницкой. Алёна сказала очень созвучные моей душе, поразительные в своей простоте и верности слова: «Мы, дети, выросшие в любви, воспринимаем её как должное. Но без неё мы теряемся».
Я счастливый человек, мне редко выпадало это ощущение беспомощности. Состояние любви — ближнего, к ближнему, к своим и не к своим,— почти никогда не покидало меня. Время идёт, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться — они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда.
Потому всё, что есть у меня сейчас на душе — благодарность и любовь. Благодарность и любовь.
— Вы потеряли его в городе, где живёт ваша сестра, — чуть поразмыслив, сказал он. — Теперь, где бы кольцо ни оказалось, оно будет охранять её.
И я сразу ему поверила.
Всё, что есть у меня на душе — обереги.
— Это тебе, — Вика протягивает странной формы камень с круглой дырочкой в сердцевине, — он последний, остальные уже использованы.
Я перекатываю на ладони тёмный, в рыжих подпалинах, продолговатый камушек. Смотрю вопросительно. Вика вздыхает. Она из тех людей, для которых каждое слово — пытка.
— Один мой знакомый ездил в горы. Сорвался в ущелье, зацепился за корень дерева, росшего на краю. Этот корень пробил камни, они на нём и висели, как бусы. Он их собрал.
Вика умолкает. Я долго греюсь о камушек. Наконец отваживаюсь на вопрос:
— Что с ним нужно делать?
— Нужно встать спиной к реке, загадать желание и бросить его в воду. Обязательно правой рукой. Сделаешь?
Кроме камушка Вика вручает мне каштан, который на самом деле зелёный, хотя и кажется коричневым (мало кому дано угадать, что он зелёный). И крохотный серебряный кулон: крылатый ангел с посохом.
Камушек давно покоится на дне нашей бердской речки. Каштан всё так же притворяется коричневым, хотя я не сомневаюсь, что на самом деле он зелёный. Ангел с посохом теперь всегда со мной — после того, как Вика его подарила, я много путешествую.
Мне всегда везло на хороших людей. Каждый из них вставлял важный кусочек мозаики в ту неоконченную картину мира, которую я себе нарисовала. Каждый привносил то, чего так не хватало мне. Каждый обязательно чему-то учил. По большому счёту, я — результат их стараний. Их бледная тень.
Недавно смотрела интервью Киры Прошутинской с Алёной Хмельницкой. Алёна сказала очень созвучные моей душе, поразительные в своей простоте и верности слова: «Мы, дети, выросшие в любви, воспринимаем её как должное. Но без неё мы теряемся».
Я счастливый человек, мне редко выпадало это ощущение беспомощности. Состояние любви — ближнего, к ближнему, к своим и не к своим,— почти никогда не покидало меня. Время идёт, и жизнь непозволительно убыстряется, великодушно оставляя рядом самых близких, самых важных. Самых любящих и милосердных. Им не нужно ничего объяснять, с ними можно не бояться быть слабой или глупой. Перед ними нет необходимости оправдываться — они простили меня накануне дня моего рождения, без условий и навсегда.
Потому всё, что есть у меня сейчас на душе — благодарность и любовь. Благодарность и любовь.
Published on July 11, 2018 00:39
June 30, 2018
В Кливленде клёны, блеклые, перецелованные первыми мороза...
В Кливленде клёны, блеклые, перецелованные первыми морозами розы, рогатые олени, гуси, пауки, молчаливые рыбы, обитавшие в воде.
Осень, птицы, отпев своё, безмолвствуют о зиме.
— Уезжали с одним чемоданом — больше при себе иметь не полагалось. Знаешь что самое унизительное? Не душные многодневные очереди, не лихорадочный сбор документов, не ожидание визы. И даже не девятьсот рублей с человека, которые нужно было заплатить за «отказ от советского гражданства и сдачу паспорта». Нас было трое, денег таких мы никогда не видели и в руках не держали, занимали у всех, отдавали уже здесь — родственникам и знакомым тех, у кого одолжили. Год на это ушёл. Так вот, о самом унизительном. В Советском Союзе квартиры были государственными, а государство строго следило, чтобы уезжающие евреи перед тем, как сдать жильё, отремонтировали его. К нам пришла комиссия проверки сдачи квартиры государству в лице двух человек из ЖЭКа — строгой тётки в красной помаде и подвыпившего слесаря, обычного бытового антисемита, который осматривал стены, потолки и приговаривал: «Катитесь, катитесь, на канализационных люках спать будете». Углядев трещину на унитазе, они потребовали его заменить. Мысль о том, что мы не сможем достать новый унитаз и поэтому не уедем буравила мне мозг, и две недели, пока шли поиски, я чуть ли не каждую ночь просыпалась в холодном поту. Пожалуй, самым унизительным было именно это. Ну и таможенники, проверяющие багаж. Они требовали открыть наши несчастные довлатовские чемоданчики и забирали оттуда всё, что им нравилось. Ты бы видела, как они, отлично понимая наше состояние и получая от этого огромное удовольствие, тянули время, перебирая вещи, ценность которых — наше прошлое.
— И у тебя что-то взяли? — я сразу же сожалею о вопросе, но уже поздно.
Пауза тянется бесконечность.
— Да.
У Жанны чудесный муж Володя, трое детей и собака Филя. Сначала Филя был доверчивым жизнерадостным щенком, только воду не пил, а ел — вот прямо хватал зубами и жевал. И в свой первый приезд я очень веселилась — надо же какой удивительный пёс!
— Он сам нас выбрал, — рассказывал с гордостью Володя. — У заводчика было штук пять щенков. Но Филя как увидел нас, растолкал всех лапами и полез на руки. Так мы его и взяли.
В следующий приезд узнаю, что у Фили тяжёлое аутоиммунное заболевание. Сегодня он весёлый и ласковый пёс, а ночью у него судороги и чудовищный приступ, который умеет снимать только специальный врач. Потом Филя долго отходит. А потом у него случается новый приступ.
— Кто же мог подумать, что ты окажешься до того еврейской собакой! — вздыхаю я.
Филя слабо шевелит хвостом и улыбается уголком рта. Самые воспитанные и преданные собаки живут в Кливленде.
И самые драчливые попугаи, кстати, тоже.
— Ты влёт полюбишь Бурджаловых, — говорит Жанна. — Во-первых, они наши близкие друзья. Во-вторых, — здесь она делает торжественную паузу, — Володька-то армянин по папе.
— А по маме?
— А по маме — наш.
— Уже люблю, — улыбаюсь я.
— Только учти, у них попугай, — предупреждает Жанна.
— Нашла кем пугать! — отмахиваюсь я.
— Ну-ну!
У Володи Бурджалова чудесная жена Юля и трое детей. И попугай Кеша, идейный женоненавистник, хитрый и продуманный, словно неуловимый мститель. Единственная женщина, которую он приемлет в ареале своего обитания — это Юля. Остальных он воспринимает как объект угрозы и делает всё возможное, чтоб эту угрозу устранить. Потому когда приходят гости, Кешу запирают в клетке. От заточения он становится скучен лицом. Ходит из угла в угол, безвольно свесив крылья, вздыхает, бормочет невнятное под нос — и демонстративно страдает. Когда мука становится невыносимой, арестант принимается биться телом об прутья клетки. Успокаивается, застряв там клювом или какой-нибудь другой не менее важной частью экстерьера. Тогда Кешу с охами извлекают из плена и отсыпают ему немного попкорна. Воздушная кукуруза — единственное лакомство, которое в состоянии хоть ненадолго, но отвлечь его от борьбы с непрошеными гостьями.
Володя Бурджалов — один из лучших неонатологов Кливленда. На его счету — сотни спасённых младенцев. Рассказывает о первых годах жизни в Америке.
— В Нью Йорке я торговал моющими пылесосами. Ходил по домам, демонстрировал функции чудо-агрегата, предлагал выгодные скидки. Говорил всем, что медик. Людям это льстило, они звонили знакомым, и, пока я пылесосил, рассказывали, что полы им протирает дипломированный врач, кандидат медицинских наук.
Однажды меня впустили в какой-то богатый особняк. Хозяйке, видно, было скучно, и она решила таким образом развлечься. Я приступил к презентации. Но случилось ужасное: вместо того, чтобы протереть до блеска пол, пылесос испачкал его чёрной краской. Хозяйка тут же закатила истерику и потребовала немедленно всё очистить, потому что пол очень дорогой. Я извинился и принялся оттирать краску, но она, казалось, въелась в паркет намертво. И тут пришёл хозяин дома, маленький пузатый колумбиец с закатанными по локоть рукавами, из которых торчали густо нанизанные золотыми кольцами и браслетами волосатые руки. Не размениваясь на слова, он ткнул большим пальцем в пятно на полу, а потом выразительно провёл им по своей шее. Я, перепуганный нерадостной перспективой быть зарезанным, принялся оттирать пятно с удвоенным старанием. Увы, оно не оттиралось. Хозяйка продолжала истерить, колумбиец ходил кругами и норовил перейти от жестов к действию. Отчаявшись, я набрал менеджера и свистящим шёпотом сообщил, что если он сию же минуту не приедет, колумбиец перережет горло не только мне, но и всему трудовому коллективу далласской фирмы, производящей чудо-пылесосы. Менеджер примчался с бутылью какой-то ядерной жидкости, которая оттёрла пол без ущерба для паркета и моей жизни. Когда мы покинули опасный дом, менеджер объявил, что я уволен и могу идти на все четыре стороны. На следующий день, сжалившись, он позвал меня обратно. И я безуспешно торговал пылесосами ещё два месяца. Хоть бы один продал!
Володя улыбается и смотрит большими, слегка навыкате, до боли родными армянскими глазами. И в моей душе распускается сиреневыми лепестками горный цветок лалазар.
Юля пододвигает блюдо с пирогом — попробуй, вкусно. Грибы сами собирали, в лесу.
Я ем нежный пирог с грибами. Прислушиваюсь к покою в сердце. За окном шумит дождь, в клетке шуршит попкорном Кеша. Вспомнив о нас, ругается на попугаячьем, уставившись одним глазом на меня, другим — на Жанну.
Вечерами в Кливленде пахнет липами, чаем из баночки со слонами, медовым закатным солнцем, освещающим пыльное дачное крыльцо. Если закрыть глаза, можно услышать, как за забором-рабицей соседка тёть Зоя отчитывает мужа, притащившего с реки целое ведро рыбьей мелочи — сам будешь чистить!
— Сам так сам! — миролюбиво соглашается дядь Толя, кидая обглоданную кость собаке Филимону. В клетке, презрительно скривив клюв, сидит нахохленный попугай Иннокентий, в миру — Чингачгук.
Ничего у моих кливлендцев не отобрали. Всё самое дорогое они увезли с собой. Шелестят-облетают листвой три тополя на Плющихе, цепляется за купола и башни Белого города северное небо, скачет на одной ножке по меловым квадратикам девочка, седьмой класс — нельзя смеяться, главное продержаться, главное — продержаться.
Осень, птицы, отпев своё, безмолвствуют о зиме.
— Уезжали с одним чемоданом — больше при себе иметь не полагалось. Знаешь что самое унизительное? Не душные многодневные очереди, не лихорадочный сбор документов, не ожидание визы. И даже не девятьсот рублей с человека, которые нужно было заплатить за «отказ от советского гражданства и сдачу паспорта». Нас было трое, денег таких мы никогда не видели и в руках не держали, занимали у всех, отдавали уже здесь — родственникам и знакомым тех, у кого одолжили. Год на это ушёл. Так вот, о самом унизительном. В Советском Союзе квартиры были государственными, а государство строго следило, чтобы уезжающие евреи перед тем, как сдать жильё, отремонтировали его. К нам пришла комиссия проверки сдачи квартиры государству в лице двух человек из ЖЭКа — строгой тётки в красной помаде и подвыпившего слесаря, обычного бытового антисемита, который осматривал стены, потолки и приговаривал: «Катитесь, катитесь, на канализационных люках спать будете». Углядев трещину на унитазе, они потребовали его заменить. Мысль о том, что мы не сможем достать новый унитаз и поэтому не уедем буравила мне мозг, и две недели, пока шли поиски, я чуть ли не каждую ночь просыпалась в холодном поту. Пожалуй, самым унизительным было именно это. Ну и таможенники, проверяющие багаж. Они требовали открыть наши несчастные довлатовские чемоданчики и забирали оттуда всё, что им нравилось. Ты бы видела, как они, отлично понимая наше состояние и получая от этого огромное удовольствие, тянули время, перебирая вещи, ценность которых — наше прошлое.
— И у тебя что-то взяли? — я сразу же сожалею о вопросе, но уже поздно.
Пауза тянется бесконечность.
— Да.
У Жанны чудесный муж Володя, трое детей и собака Филя. Сначала Филя был доверчивым жизнерадостным щенком, только воду не пил, а ел — вот прямо хватал зубами и жевал. И в свой первый приезд я очень веселилась — надо же какой удивительный пёс!
— Он сам нас выбрал, — рассказывал с гордостью Володя. — У заводчика было штук пять щенков. Но Филя как увидел нас, растолкал всех лапами и полез на руки. Так мы его и взяли.
В следующий приезд узнаю, что у Фили тяжёлое аутоиммунное заболевание. Сегодня он весёлый и ласковый пёс, а ночью у него судороги и чудовищный приступ, который умеет снимать только специальный врач. Потом Филя долго отходит. А потом у него случается новый приступ.
— Кто же мог подумать, что ты окажешься до того еврейской собакой! — вздыхаю я.
Филя слабо шевелит хвостом и улыбается уголком рта. Самые воспитанные и преданные собаки живут в Кливленде.
И самые драчливые попугаи, кстати, тоже.
— Ты влёт полюбишь Бурджаловых, — говорит Жанна. — Во-первых, они наши близкие друзья. Во-вторых, — здесь она делает торжественную паузу, — Володька-то армянин по папе.
— А по маме?
— А по маме — наш.
— Уже люблю, — улыбаюсь я.
— Только учти, у них попугай, — предупреждает Жанна.
— Нашла кем пугать! — отмахиваюсь я.
— Ну-ну!
У Володи Бурджалова чудесная жена Юля и трое детей. И попугай Кеша, идейный женоненавистник, хитрый и продуманный, словно неуловимый мститель. Единственная женщина, которую он приемлет в ареале своего обитания — это Юля. Остальных он воспринимает как объект угрозы и делает всё возможное, чтоб эту угрозу устранить. Потому когда приходят гости, Кешу запирают в клетке. От заточения он становится скучен лицом. Ходит из угла в угол, безвольно свесив крылья, вздыхает, бормочет невнятное под нос — и демонстративно страдает. Когда мука становится невыносимой, арестант принимается биться телом об прутья клетки. Успокаивается, застряв там клювом или какой-нибудь другой не менее важной частью экстерьера. Тогда Кешу с охами извлекают из плена и отсыпают ему немного попкорна. Воздушная кукуруза — единственное лакомство, которое в состоянии хоть ненадолго, но отвлечь его от борьбы с непрошеными гостьями.
Володя Бурджалов — один из лучших неонатологов Кливленда. На его счету — сотни спасённых младенцев. Рассказывает о первых годах жизни в Америке.
— В Нью Йорке я торговал моющими пылесосами. Ходил по домам, демонстрировал функции чудо-агрегата, предлагал выгодные скидки. Говорил всем, что медик. Людям это льстило, они звонили знакомым, и, пока я пылесосил, рассказывали, что полы им протирает дипломированный врач, кандидат медицинских наук.
Однажды меня впустили в какой-то богатый особняк. Хозяйке, видно, было скучно, и она решила таким образом развлечься. Я приступил к презентации. Но случилось ужасное: вместо того, чтобы протереть до блеска пол, пылесос испачкал его чёрной краской. Хозяйка тут же закатила истерику и потребовала немедленно всё очистить, потому что пол очень дорогой. Я извинился и принялся оттирать краску, но она, казалось, въелась в паркет намертво. И тут пришёл хозяин дома, маленький пузатый колумбиец с закатанными по локоть рукавами, из которых торчали густо нанизанные золотыми кольцами и браслетами волосатые руки. Не размениваясь на слова, он ткнул большим пальцем в пятно на полу, а потом выразительно провёл им по своей шее. Я, перепуганный нерадостной перспективой быть зарезанным, принялся оттирать пятно с удвоенным старанием. Увы, оно не оттиралось. Хозяйка продолжала истерить, колумбиец ходил кругами и норовил перейти от жестов к действию. Отчаявшись, я набрал менеджера и свистящим шёпотом сообщил, что если он сию же минуту не приедет, колумбиец перережет горло не только мне, но и всему трудовому коллективу далласской фирмы, производящей чудо-пылесосы. Менеджер примчался с бутылью какой-то ядерной жидкости, которая оттёрла пол без ущерба для паркета и моей жизни. Когда мы покинули опасный дом, менеджер объявил, что я уволен и могу идти на все четыре стороны. На следующий день, сжалившись, он позвал меня обратно. И я безуспешно торговал пылесосами ещё два месяца. Хоть бы один продал!
Володя улыбается и смотрит большими, слегка навыкате, до боли родными армянскими глазами. И в моей душе распускается сиреневыми лепестками горный цветок лалазар.
Юля пододвигает блюдо с пирогом — попробуй, вкусно. Грибы сами собирали, в лесу.
Я ем нежный пирог с грибами. Прислушиваюсь к покою в сердце. За окном шумит дождь, в клетке шуршит попкорном Кеша. Вспомнив о нас, ругается на попугаячьем, уставившись одним глазом на меня, другим — на Жанну.
Вечерами в Кливленде пахнет липами, чаем из баночки со слонами, медовым закатным солнцем, освещающим пыльное дачное крыльцо. Если закрыть глаза, можно услышать, как за забором-рабицей соседка тёть Зоя отчитывает мужа, притащившего с реки целое ведро рыбьей мелочи — сам будешь чистить!
— Сам так сам! — миролюбиво соглашается дядь Толя, кидая обглоданную кость собаке Филимону. В клетке, презрительно скривив клюв, сидит нахохленный попугай Иннокентий, в миру — Чингачгук.
Ничего у моих кливлендцев не отобрали. Всё самое дорогое они увезли с собой. Шелестят-облетают листвой три тополя на Плющихе, цепляется за купола и башни Белого города северное небо, скачет на одной ножке по меловым квадратикам девочка, седьмой класс — нельзя смеяться, главное продержаться, главное — продержаться.
Published on June 30, 2018 06:42
June 17, 2018
У Анаит муж, три дочки, старенький глухой свёкор и приков...
У Анаит муж, три дочки, старенький глухой свёкор и прикованная к кровати мать. Муж работает сторожем на фабрике, ночует дома через день. Мать сломала ногу, когда полезла за какой-то малонужной ерундой на чердак. Лежит теперь торжественная, закованная в гипс по самые тумбаны. Свёкор разучился спать, зато полюбил среди ночи спорить с собой на износ. Когда накал спора достигает апогея, мать принимается колотить в стену костылём. Анаит тогда со вздохом поднимается с постели и идёт утихомиривать стариков.
Младшие дочери пока школьницы, старшая же, отучившись в городе, вернулась в родную деревню и вышла замуж за своего ровесника. Недавно у них сын вылупился — смешной, глазастый, с кучеряшкой над левым ухом. Сват, заядлый болельщик, на радостях решил назвать ребёнка Марадоной. Еле отговорили.
Крестили на той неделе. Приходил священник, бородатый, как и положено, с наперсным крестом во всё пузо. Со своим медным тазом. Велел налить воды, трижды макнул туда ребёнка, пропел положенную молитву благодарения, перекрывая густым басом возмущённый детский рёв. Помазал миром, виртуозно пристегнул подгузник и вручил крёстному отцу. Выпил кизиловки, похвалил крепость. От денег отказался, ушёл с тазом подмышкой.
— Знал бы, что окажется приличным человеком — пожал бы ему руку, — очнувшись, высказался ему вслед сват. Будь священник родом из других краёв, непременно бы обиделся. Но этот даже бровью не повёл. Первый день что ли своих знает! Таких даже в церковь не затащишь, приходится самому по домам ходить, новорожденных крестить. Не люди, а монолитные конструкции. Захочешь взорвать — даже тротил их не возьмёт!
У Анаит дом, сад-огород, корова Цветочек, шумный курятник. Клубника сумасшедшая пошла, не знаешь куда девать. Варенье сварили, с сахаром перетёрли, засушили, батарею трёхлитровых банок компота закатали. Диатез себе наели. А ей всё равно конца и края не видать. Совсем скоро смородина поспеет, следом — малина с голубикой. Про черешню и тутовую ягоду вообще страшно вспоминать. Урожай который год хороший, а девать некуда. Самим столько не съесть, продавать в город невыгодно — за копейки берут, и доставка за свой счёт. Вычитаешь все расходы — остаёшься в накладе. Денег совсем мало, чем за свет и газ платить — непонятно. Не урожаем же расплачиваться. Прошлой осенью пытались лицензию на производство кизиловки получить, но ничего не добились. Мало того, что отказали, так ещё пальцем у виска покрутили, мол, лицензии только своим выдают, и то за большие деньги.
— А мы что, не свои? — оскорбился муж.
Скандалил, но так ничего и не добился. Уехали из города убитые. В мире ничего не меняется. Чем ближе человек к земле, тем меньше ему достаётся справедливости.
В детстве, проснувшись ранним летним утром, Анаит выходила босая за порог дома. К тому времени бабушка, дважды протерев пол веранды мокрой тряпкой (первый раз от пыли, второй — чтоб не говорили, что Анхатанц Лусик до того обленилась, что пол веранды один раз протирает), подметала цветочной метлой двор. Пробежав по влажным половицам к краю веранды, Анаит, привстав на цыпочки, выглядывала сквозь тусклое свечение уходящего тумана крайние дома далёкого Берда.
— Хоть бы мы там жили, — вздыхала она.
Берд был каким-никаким, но городом. А в городе лучше, чем в деревне.
Прошло почти сорок лет, но Анаит так и живёт в своей деревне Тавуш. Раз в неделю она относит в Берд пятилитровый бидон молока. Пешком, чтобы денег на такси не тратить. Дорога — два часа в один конец. Если отправиться в путь сразу после дойки, к обеду можно воротиться домой. Молоко берёт Пашоянц невестка. В прошлый четверг, изрядно повоевав, она подняла цену за литр на сто драмов. Анаит отнекивалась, но Пашоянц невестка пригрозила в случае отказа молоко у неё не брать. Пришлось соглашаться. Шла обратно по жаркой солнечной дороге, плакала от счастья и прикидывала, на что можно эти нежданные деньги пустить. То ли за газ доплатить, то ли туфли в ремонт отнести — набойки совсем прохудились, нужно менять. А может соседу Размику отдать, как раз на днях заходил, денег просил. У крохотного, смахивающего на засушенного кузнечика Размика пятеро детей, беременная жена и грозное прозвище Рамзес. Потому что только фараон может позволить себе такое количество детей. Вот и помогают фараону всей деревней: кто картошки подкинет, кто муки, кто одежды. Так и выживают, выручая друг друга. Этот мир давно бы рухнул в тартарары, если бы не доброта. Чем ближе человек к земле, тем её больше.
Младшие дочери пока школьницы, старшая же, отучившись в городе, вернулась в родную деревню и вышла замуж за своего ровесника. Недавно у них сын вылупился — смешной, глазастый, с кучеряшкой над левым ухом. Сват, заядлый болельщик, на радостях решил назвать ребёнка Марадоной. Еле отговорили.
Крестили на той неделе. Приходил священник, бородатый, как и положено, с наперсным крестом во всё пузо. Со своим медным тазом. Велел налить воды, трижды макнул туда ребёнка, пропел положенную молитву благодарения, перекрывая густым басом возмущённый детский рёв. Помазал миром, виртуозно пристегнул подгузник и вручил крёстному отцу. Выпил кизиловки, похвалил крепость. От денег отказался, ушёл с тазом подмышкой.
— Знал бы, что окажется приличным человеком — пожал бы ему руку, — очнувшись, высказался ему вслед сват. Будь священник родом из других краёв, непременно бы обиделся. Но этот даже бровью не повёл. Первый день что ли своих знает! Таких даже в церковь не затащишь, приходится самому по домам ходить, новорожденных крестить. Не люди, а монолитные конструкции. Захочешь взорвать — даже тротил их не возьмёт!
У Анаит дом, сад-огород, корова Цветочек, шумный курятник. Клубника сумасшедшая пошла, не знаешь куда девать. Варенье сварили, с сахаром перетёрли, засушили, батарею трёхлитровых банок компота закатали. Диатез себе наели. А ей всё равно конца и края не видать. Совсем скоро смородина поспеет, следом — малина с голубикой. Про черешню и тутовую ягоду вообще страшно вспоминать. Урожай который год хороший, а девать некуда. Самим столько не съесть, продавать в город невыгодно — за копейки берут, и доставка за свой счёт. Вычитаешь все расходы — остаёшься в накладе. Денег совсем мало, чем за свет и газ платить — непонятно. Не урожаем же расплачиваться. Прошлой осенью пытались лицензию на производство кизиловки получить, но ничего не добились. Мало того, что отказали, так ещё пальцем у виска покрутили, мол, лицензии только своим выдают, и то за большие деньги.
— А мы что, не свои? — оскорбился муж.
Скандалил, но так ничего и не добился. Уехали из города убитые. В мире ничего не меняется. Чем ближе человек к земле, тем меньше ему достаётся справедливости.
В детстве, проснувшись ранним летним утром, Анаит выходила босая за порог дома. К тому времени бабушка, дважды протерев пол веранды мокрой тряпкой (первый раз от пыли, второй — чтоб не говорили, что Анхатанц Лусик до того обленилась, что пол веранды один раз протирает), подметала цветочной метлой двор. Пробежав по влажным половицам к краю веранды, Анаит, привстав на цыпочки, выглядывала сквозь тусклое свечение уходящего тумана крайние дома далёкого Берда.
— Хоть бы мы там жили, — вздыхала она.
Берд был каким-никаким, но городом. А в городе лучше, чем в деревне.
Прошло почти сорок лет, но Анаит так и живёт в своей деревне Тавуш. Раз в неделю она относит в Берд пятилитровый бидон молока. Пешком, чтобы денег на такси не тратить. Дорога — два часа в один конец. Если отправиться в путь сразу после дойки, к обеду можно воротиться домой. Молоко берёт Пашоянц невестка. В прошлый четверг, изрядно повоевав, она подняла цену за литр на сто драмов. Анаит отнекивалась, но Пашоянц невестка пригрозила в случае отказа молоко у неё не брать. Пришлось соглашаться. Шла обратно по жаркой солнечной дороге, плакала от счастья и прикидывала, на что можно эти нежданные деньги пустить. То ли за газ доплатить, то ли туфли в ремонт отнести — набойки совсем прохудились, нужно менять. А может соседу Размику отдать, как раз на днях заходил, денег просил. У крохотного, смахивающего на засушенного кузнечика Размика пятеро детей, беременная жена и грозное прозвище Рамзес. Потому что только фараон может позволить себе такое количество детей. Вот и помогают фараону всей деревней: кто картошки подкинет, кто муки, кто одежды. Так и выживают, выручая друг друга. Этот мир давно бы рухнул в тартарары, если бы не доброта. Чем ближе человек к земле, тем её больше.
Published on June 17, 2018 04:41
June 5, 2018
В Киеве цветёт жасмин. Небо над луковичками церквей расши...
В Киеве цветёт жасмин. Небо над луковичками церквей расшили бисером облаков, вплели в кроны каштанов ленты радуги, подсветили уходящий ввысь журавлиный клин золотом солнца — горит в сердце города свеча памяти по тем, о ком скорбеть и скорбеть.
Под куполом Софийского собора, воздев в заступнической молитве руки, парит Богоматерь Оранта, выступают из тени печальные лики святых, у каждого — взгляд сквозь вечность. Стены расписаны мелкими — едва различить — записями на старославянском. «Прости меня, Господи, за то, что я грешу». И чуть ниже, крохотной, почти незаметной строкой: «И грешить буду».
В Киеве лето, высоченные мосты-горбунки пьют воду чешуйчатого Днепра, выглядывает из-под побелки мозаичным узором старинная кладка — каждый камушек дышит забытым. Прижаться лбом, помолчать.
Отходит клубника, скоро не застать будет черешни, зато поспела первая вишня — сладкокислая, ароматная. Мне её приносят в трогательном — в сложенные детские ладошки — кулёчке.
— Мытая, можно прямо сразу есть, — заботливо подсказывает девочка. И улыбается.
На нижней ступеньке лестницы, неумело опершись на костыли и поджав загипсованную ногу, стоит молодая женщина. Рядом — дочь. Чуть выше — бабушка. Три возраста одного лица.
— Наринэ, мне сложно подняться на второй этаж, подпишите, пожалуйста, книгу.
Пока подписываю, шёпотом повторяет: «Спасибо, спасибо».
Мальчик лет восьми протягивает пятигривенную купюру:
— Я вашу книгу забыл. Напишите на деньгах.
— Купюра-то мелковата! — шутит кто-то из взрослых.
— На крупную мы с мамой поедим! — не оборачиваясь, снисходительно объясняет мальчик.
— Садитесь рядом, — предлагаю высокой грузной женщине, которая, тяжело опираясь рукой на спинку скамейки, протягивает мне книгу.
— Не смогу. Ноги отекают.
— У нас, высоких, это общая беда.
— Нет-нет. У меня онкология. Всё хорошо, не пугайтесь! Но ноги отекают, и колени с трудом сгибаются. Не смогу сесть.
Желает здоровья, уходит.
Очередь пропускает беременную красавицу. Муж заботливо помогает ей сесть. Она улыбается — открыто, лучезарно. Ему, мне.
— Когда роды?
— Сегодня вечером. Вчера уже положили в клинику, а сегодня велели много ходить, вот я и отпросилась к вам. Со скрипом, но отпустили. Я книгу подписать и обратно. Можно вас обнять?
Девушка-фотограф, оба дня снимающая встречи, подходит, когда все ушли, протягивает «Манюню»:
— Подпишите, пожалуйста, самой лучшей в мире маме.
— Так и написать?
— Так и напишите.
В Киеве ночь, круглая луна, смазанная лента неоновых огней. Спят подсолнухи и маки, спят мосты и каштаны, спят чудища на доме химер. Подруга Маруся, высунув в окно машины руку, подпевает Вакарчуку: «Як поруч з тобою — життя починаеться знов! Починається знов!»
С такими читателями действительно жизнь начинается вновь.
Спасибо вам за это. Спасибо.
Под куполом Софийского собора, воздев в заступнической молитве руки, парит Богоматерь Оранта, выступают из тени печальные лики святых, у каждого — взгляд сквозь вечность. Стены расписаны мелкими — едва различить — записями на старославянском. «Прости меня, Господи, за то, что я грешу». И чуть ниже, крохотной, почти незаметной строкой: «И грешить буду».
В Киеве лето, высоченные мосты-горбунки пьют воду чешуйчатого Днепра, выглядывает из-под побелки мозаичным узором старинная кладка — каждый камушек дышит забытым. Прижаться лбом, помолчать.
Отходит клубника, скоро не застать будет черешни, зато поспела первая вишня — сладкокислая, ароматная. Мне её приносят в трогательном — в сложенные детские ладошки — кулёчке.
— Мытая, можно прямо сразу есть, — заботливо подсказывает девочка. И улыбается.
На нижней ступеньке лестницы, неумело опершись на костыли и поджав загипсованную ногу, стоит молодая женщина. Рядом — дочь. Чуть выше — бабушка. Три возраста одного лица.
— Наринэ, мне сложно подняться на второй этаж, подпишите, пожалуйста, книгу.
Пока подписываю, шёпотом повторяет: «Спасибо, спасибо».
Мальчик лет восьми протягивает пятигривенную купюру:
— Я вашу книгу забыл. Напишите на деньгах.
— Купюра-то мелковата! — шутит кто-то из взрослых.
— На крупную мы с мамой поедим! — не оборачиваясь, снисходительно объясняет мальчик.
— Садитесь рядом, — предлагаю высокой грузной женщине, которая, тяжело опираясь рукой на спинку скамейки, протягивает мне книгу.
— Не смогу. Ноги отекают.
— У нас, высоких, это общая беда.
— Нет-нет. У меня онкология. Всё хорошо, не пугайтесь! Но ноги отекают, и колени с трудом сгибаются. Не смогу сесть.
Желает здоровья, уходит.
Очередь пропускает беременную красавицу. Муж заботливо помогает ей сесть. Она улыбается — открыто, лучезарно. Ему, мне.
— Когда роды?
— Сегодня вечером. Вчера уже положили в клинику, а сегодня велели много ходить, вот я и отпросилась к вам. Со скрипом, но отпустили. Я книгу подписать и обратно. Можно вас обнять?
Девушка-фотограф, оба дня снимающая встречи, подходит, когда все ушли, протягивает «Манюню»:
— Подпишите, пожалуйста, самой лучшей в мире маме.
— Так и написать?
— Так и напишите.
В Киеве ночь, круглая луна, смазанная лента неоновых огней. Спят подсолнухи и маки, спят мосты и каштаны, спят чудища на доме химер. Подруга Маруся, высунув в окно машины руку, подпевает Вакарчуку: «Як поруч з тобою — життя починаеться знов! Починається знов!»
С такими читателями действительно жизнь начинается вновь.
Спасибо вам за это. Спасибо.
Published on June 05, 2018 08:14
May 22, 2018
По воскресеньям мы выезжали на природу. — Дети, завтра у ...
По воскресеньям мы выезжали на природу.
— Дети, завтра у нас пикник, — объявляла мама.
Голос её тонул в наших радостных криках.
— Урааааа! В лес поедем! На шашлыки!
— Только бы хорошая погода! — заклинали мы, укладываясь в постель. Кому не удавалось уснуть до Каринкиного храпа, приходилось долго потом таращиться в окно, наблюдая звёздное мерцание небес. Если луну видно хорошо, значит день будет солнечным, а если она в маревном кольце — жди тумана и дождя. На пикник мы, конечно, поедем в любом случае, но дождь не даст развернуться в полную силу. В сырую погоду ведь по деревьям не полазишь, подолом в малиннике не запутаешься, репьев полные колготки не наберёшь! Сидишь под навесом, насупившись, ведёшь мелкое подрывное существование: то младшим сёстрам напакостишь, то с Каринкой вусмерть подерёшься, то в костёр всякого мусора накидаешь, правда, чаще всего потерпишь фиаско, потому что папа бдит.
Роль гидрометцентра в нашей семье выполняла двухлетняя Сонечка. Проснувшись раньше всех, она, проинспектировав ситуацию за окном, врывалась в родительскую спальню, пугая всех басовитым воплем:
— На улице погода-а-а!
Какая на улице погода, мы угадывали по её голосу. Если вопль радостный, значит день погожий. Если сердитый — значит природа подкачала.
Мясо папа брал у мясника Королёва, и если вы подумали, что это фамилия, то я должна вас разочаровать. Унанац Никал, большой поклонник академика Королёва, назвал своего долгожданного сына в его честь. Робкие возражения жены (Никал джан, пусть я твоё слово сахаром перебью, давай хотя бы Сергеем назовём!) отмёл кратким и исчерпывающим «Сергеев много, а Королёв один!» Не оправдав амбициозных надежд семьи, Королёв вырос не в академика, а совсем наоборот — в мясника.
Папа наведывался к нему ранним воскресным утром, покупал свинину и баранину. Баранину нарезал на порционные куски и убирал на нижнюю полку холодильника (мариновать её ни в коем случае нельзя, а солить нужно уже на огне), а свинину, приправив каменной солью, сухими горными травами и кольцами лука, оставлял дозревать. Два-три часа вполне достаточно, чтобы мясо набралось нужного аромата. Дольше держать неправильно — маринад перебивает его вкус.
Пикник — это шумная возня на заднем сиденье папиного автомобиля — тем, кому не досталось места у окна, тоже хотелось посмотреть, что в мире творится.
— Уймётесь вы наконец? — прикрикивала на нас мама. Папа молчал — нервов у него, как у любого стоматолога, осталось совсем мало, потому он их берёг для работы.
Пристыженные, мы ненадолго утихали. Вытянув шеи, наблюдали, как поднимая клубы пыли, мчится по улице учительница химии Ангидрид, известная в народе своей фразой «может, я и хромая, зато к фигуре не придерёшься!» К фигуре (воинственно торчащий фасад, обширные тылы) действительно не придирались — по Берду ходили упорные слухи, что Ангидрид пощёчиной нокаутировала исполинского в росте и весе военрука. Так как габаритами военрука никто из нас похвастать не мог, мы молча и даже уважительно наблюдали, как, невзирая на хромоту, на скорости выпущенной пули уходит за поворот разбитой деревенской дороги химичка Ангидрид.
— Может в продуктовом дефицит выкинули? — задумчиво тянула мама. — Зелёный горошек? Венгерских кур?
Папа, прикинувшись глухим, нажимал на педаль газа. Мама вздыхала, но не настаивала. Какой, в конце концов, горошек, когда впереди природа и шашлыки!
Иногда к нам присоединялся троюродный дядя папы, дед Геворг. С пустыми руками он никогда не приходил: то свернёт в кулёк лист лопуха и ягод туда наберёт, то с букетом серо-белёсых опят явится. В любое время года он надевал чёрный шерстяной берет — настоящий, французский, с торчащей пимпочкой. Папа говорил, что по головному убору его можно из космоса вычислить, ведь он носит его не снимая, даже когда спит или моется в бане. Дед Геворг на племянника не обижался. Ел основательно, с нескрываемым удовольствием, запивая шашлык тутовкой и заедая салатом из печёных овощей. С ним интересно было говорить, потому что на любой вопрос у него имелся исчерпывающий ответ.
— Дед Гево, почему дочь старого Ераноса осталась в старых девах? — любопытствовали мы.
— На свадьбе старшей сестры она решила сразить гостей танцем живота. Чуть праздник не расстроила, потому что родственники жениха сочли это оскорблением и дружно покинули столы. Еле уговорили вернуться. Вот ты мне скажи, Надя джан, — обращался он за поддержкой к маме, — где это видано, чтоб у нас приличные девушки танец живота исполняли?
— Нигде, — пряча улыбку, соглашалась мама.
— Вот так она и бросила на свою судьбу камень!
Пока я представляла несчастную дочь Ераноса, исполняющую перед изумлёнными гостями танец живота, Каринка целилась из рогатки в пимпочку берета деда Гево. Дело до выстрела не доходило — неуёмного снайпера метким подзатыльником снимал наш умудрённым опытом отец.
Возвращались с пикника с ощущением утерянного праздника. Впереди воскресный вечер с привычными, набившими оскомину заботами: доделать уроки, помыться, нестройно наиграть ненавистные гаммы и этюд Черни, пришить к школьному платью воротничок и манжеты. Тридцать восемь раз подраться с Каринкой, довести до белого каления родителей. С боем улечься в постель. Улучив минуту, метнуться на кухню и вытащить из холодильника несколько кусочков шашлыка — себе и враз проголодавшимся сёстрам. Есть, поскуливая от восторга, который раз убеждаясь, что холодное мясо ничуть не хуже горячего, и очень даже может быть, вкусней. Уснуть счастливыми, с перемазанными шашлыком чумазыми лицами.
— Дети, завтра у нас пикник, — объявляла мама.
Голос её тонул в наших радостных криках.
— Урааааа! В лес поедем! На шашлыки!
— Только бы хорошая погода! — заклинали мы, укладываясь в постель. Кому не удавалось уснуть до Каринкиного храпа, приходилось долго потом таращиться в окно, наблюдая звёздное мерцание небес. Если луну видно хорошо, значит день будет солнечным, а если она в маревном кольце — жди тумана и дождя. На пикник мы, конечно, поедем в любом случае, но дождь не даст развернуться в полную силу. В сырую погоду ведь по деревьям не полазишь, подолом в малиннике не запутаешься, репьев полные колготки не наберёшь! Сидишь под навесом, насупившись, ведёшь мелкое подрывное существование: то младшим сёстрам напакостишь, то с Каринкой вусмерть подерёшься, то в костёр всякого мусора накидаешь, правда, чаще всего потерпишь фиаско, потому что папа бдит.
Роль гидрометцентра в нашей семье выполняла двухлетняя Сонечка. Проснувшись раньше всех, она, проинспектировав ситуацию за окном, врывалась в родительскую спальню, пугая всех басовитым воплем:
— На улице погода-а-а!
Какая на улице погода, мы угадывали по её голосу. Если вопль радостный, значит день погожий. Если сердитый — значит природа подкачала.
Мясо папа брал у мясника Королёва, и если вы подумали, что это фамилия, то я должна вас разочаровать. Унанац Никал, большой поклонник академика Королёва, назвал своего долгожданного сына в его честь. Робкие возражения жены (Никал джан, пусть я твоё слово сахаром перебью, давай хотя бы Сергеем назовём!) отмёл кратким и исчерпывающим «Сергеев много, а Королёв один!» Не оправдав амбициозных надежд семьи, Королёв вырос не в академика, а совсем наоборот — в мясника.
Папа наведывался к нему ранним воскресным утром, покупал свинину и баранину. Баранину нарезал на порционные куски и убирал на нижнюю полку холодильника (мариновать её ни в коем случае нельзя, а солить нужно уже на огне), а свинину, приправив каменной солью, сухими горными травами и кольцами лука, оставлял дозревать. Два-три часа вполне достаточно, чтобы мясо набралось нужного аромата. Дольше держать неправильно — маринад перебивает его вкус.
Пикник — это шумная возня на заднем сиденье папиного автомобиля — тем, кому не досталось места у окна, тоже хотелось посмотреть, что в мире творится.
— Уймётесь вы наконец? — прикрикивала на нас мама. Папа молчал — нервов у него, как у любого стоматолога, осталось совсем мало, потому он их берёг для работы.
Пристыженные, мы ненадолго утихали. Вытянув шеи, наблюдали, как поднимая клубы пыли, мчится по улице учительница химии Ангидрид, известная в народе своей фразой «может, я и хромая, зато к фигуре не придерёшься!» К фигуре (воинственно торчащий фасад, обширные тылы) действительно не придирались — по Берду ходили упорные слухи, что Ангидрид пощёчиной нокаутировала исполинского в росте и весе военрука. Так как габаритами военрука никто из нас похвастать не мог, мы молча и даже уважительно наблюдали, как, невзирая на хромоту, на скорости выпущенной пули уходит за поворот разбитой деревенской дороги химичка Ангидрид.
— Может в продуктовом дефицит выкинули? — задумчиво тянула мама. — Зелёный горошек? Венгерских кур?
Папа, прикинувшись глухим, нажимал на педаль газа. Мама вздыхала, но не настаивала. Какой, в конце концов, горошек, когда впереди природа и шашлыки!
Иногда к нам присоединялся троюродный дядя папы, дед Геворг. С пустыми руками он никогда не приходил: то свернёт в кулёк лист лопуха и ягод туда наберёт, то с букетом серо-белёсых опят явится. В любое время года он надевал чёрный шерстяной берет — настоящий, французский, с торчащей пимпочкой. Папа говорил, что по головному убору его можно из космоса вычислить, ведь он носит его не снимая, даже когда спит или моется в бане. Дед Геворг на племянника не обижался. Ел основательно, с нескрываемым удовольствием, запивая шашлык тутовкой и заедая салатом из печёных овощей. С ним интересно было говорить, потому что на любой вопрос у него имелся исчерпывающий ответ.
— Дед Гево, почему дочь старого Ераноса осталась в старых девах? — любопытствовали мы.
— На свадьбе старшей сестры она решила сразить гостей танцем живота. Чуть праздник не расстроила, потому что родственники жениха сочли это оскорблением и дружно покинули столы. Еле уговорили вернуться. Вот ты мне скажи, Надя джан, — обращался он за поддержкой к маме, — где это видано, чтоб у нас приличные девушки танец живота исполняли?
— Нигде, — пряча улыбку, соглашалась мама.
— Вот так она и бросила на свою судьбу камень!
Пока я представляла несчастную дочь Ераноса, исполняющую перед изумлёнными гостями танец живота, Каринка целилась из рогатки в пимпочку берета деда Гево. Дело до выстрела не доходило — неуёмного снайпера метким подзатыльником снимал наш умудрённым опытом отец.
Возвращались с пикника с ощущением утерянного праздника. Впереди воскресный вечер с привычными, набившими оскомину заботами: доделать уроки, помыться, нестройно наиграть ненавистные гаммы и этюд Черни, пришить к школьному платью воротничок и манжеты. Тридцать восемь раз подраться с Каринкой, довести до белого каления родителей. С боем улечься в постель. Улучив минуту, метнуться на кухню и вытащить из холодильника несколько кусочков шашлыка — себе и враз проголодавшимся сёстрам. Есть, поскуливая от восторга, который раз убеждаясь, что холодное мясо ничуть не хуже горячего, и очень даже может быть, вкусней. Уснуть счастливыми, с перемазанными шашлыком чумазыми лицами.
Published on May 22, 2018 04:13
Narine Abgaryan's Blog
- Narine Abgaryan's profile
- 966 followers
Narine Abgaryan isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.