Narine Abgaryan's Blog, page 9
February 2, 2019
Стоматологи не дадут соврать: удаление клыка требует особ...
Стоматологи не дадут соврать: удаление клыка требует особого мастерства. У клыка очень длинный и тонкий корень, который легко можно сломать. И тогда приходится выковыривать его из десны кусочками.
Так вот. За полувековую медицинскую практику папа всего два раза ломал клыки: своему отцу и своему же брату.
Но, вопреки бытующему мнению о врачах, он у нас не суеверный. Потому без страха и угрызений совести продолжал лечить близких и друзей. С особым остервенением — собственных детей.
Слава богу, делал он это стихийно. О наличии у нас зубов вспоминал, когда, как говорят в Берде, «гребешок у него подогревался». То есть в подпитии.
Стадий подогретости гребешка у папы было три.
Первую, самую лёгкую, мы назвали профилактической. Это когда, слегка подшофе, он выстраивал нас в шеренгу и бегло осматривал зубы. Доставалось всем кроме годовалой Сонечки, которая, с поразительной скоростью перемещая из одного уголка рта в другой пустышку, ползала у нас в ногах, почему-то попой вперёд.
По итогам осмотра папа выносил безапелляционный вердикт: Наринэ и Гаянэ завтра в 10 утра должны быть в поликлинике!
— Почему!? — возмущались мы.
— Кариес!
— А у Каринэ, значит, не кариес?
— У неё с зубами всё в порядке.
Каринку мы в этот вечер ненавидели с особой лютостью.
Вторую стадию папиного подпития мы называли забывчивой.
Потребовав широко раскрыть рот и насвистывая под нос эстрадно-незатейливое, он долго и вдумчиво разглядывал наши зубы, поддевая то одну, то другую щеку изогнутым пальцем. Сонечка, безмятежно гуля, размазывала по стене ненавистный шпинатный бебимикс.
— Тебя как зовут? — будто бы между делом любопытствовал папа, заглядывая в рот очередной дочери.
— Пып! — с укоризной мычали мы.
— Захрмар! Я один, а вас много. И всех зовут практически одинаково. Завтра ко мне!
— Жачем?
— Кариес. Как там вас? В общем, ты и ты! Чтоб в десять ноль-ноль были в поликлинике!
— А Каринэ?
— Ей не надо.
Ненависть к Каринке разрасталась до галактических масштабов.
Третью стадию папиного, хм, подпития мы называли патриотической — она будила в нём зов предков. Проведя беглый осмотр и вынеся приговор мне и Гаянэ, он усаживался в кресло, и, изящно заплетаясь языком, приступал к историческому ликбезу. Закончив с лекцией, переходил к вопросам. Мы держали ответ за границы Великой Армении (от моря до моря — от какого моря и до какого моря? — от Чёрного и до Каспия, только Каспий вроде не море — не умничайте!) За византийские армянские династии. За глиняный водопровод в городе Ани, который будет действовать даже после того, как остальные цивилизации исчезнут с лица земли. За Киликию, возлюбившего армянский язык Байрона и мхитаристов. Понемногу, накаляясь, дело доходило до Геноцида. Солнце уходило за горизонт и наступала полярная ночь. Папа усаживал меня за пианино — играть Комитаса. Каринка рисовала карту Западной Армении, отмечая крестиком героические очаги сопротивления. Гаянэ перечисляла боевых генералов, с чьей помощью мы одержали победу под Сардарапатом.
— И благодаря этой победе мы чегоооо??? — задавал наводящие вопросы папа.
— И благодаря этой победе восточные армяне избежали истребления и турки-османы своего не добились! — в один голос отвечали мы.
Растроганный недюжинными знаниями своих дочерей, папа принимался раздавать деньги: кому перепадало три рубля, кому вообще пять. Утром, протрезвев, он, конечно же, забирал их обратно, но оставлял каждой по пятьдесят копеек. На эти деньги можно было разжиться трубочкой с масляным кремом, коржиком, кульком семечек и воздушной кукурузой, именуемой в народе ади-буди. Гуляй рванина!
Вечером, заедая семечки коржиком и закусывая кислыми яблоками, сворованными из сада поликлиники, мы с Гаянэ наблюдали, как Каринка выдирает ноги очередному шебутному мальчику, по несчастью проживающему в ареале ее обитания.
— Может наша Каринка тоже турок-осман? — строила предположения Гаянэ.
— Вполне возможно, — соглашалась я, аристократично сплёвывая семечковую лузгу в ладошку.
Быть дочерью стоматолога — огромное счастье. Во-первых потому, что всегда есть возможность стащить медицинский пинцет, которым, прихватив кусочек дымящегося карбита, можно прожечь навылет спину какому-нибудь зловредному мальчику.
Во-вторых, у тебя под рукой всегда есть акриловая пластмасса. Какой это нужный в хозяйстве материал, знает любой ребенок, у которого папа — стоматолог. Этой пластмассой можно намертво приклеить что угодно и к чему угодно. Можно навонять класс до приступа мигрени у учителя. Можно налепить смертоносных пулек и истребить из рогатки Рубиков по всей республике. И даже за её пределами.
А еще быть дочерью стоматолога выгодно потому, что неубиваемых смешных историй в твоей жизни хоть отбавляй. Например, одна папина пациентка, жуткая трусиха, месяц готовилась к походу в поликлинику. В день икс она всё-таки туда пришла, зашла в папин кабинет, поздоровалась с ним и медсестрой, браво чеканя шаг, пошла к креслу, обошла его, и, вскарабкавшись на подоконник, выпрыгнула в окно. Счастье, что кабинет располагался на первом этаже.
Муж потом возвращал её с извинениями.
— Доктор джан, ты не думай, она со всеми так! Потому к нервапаталогу я её не отпускаю. У него кабинет на 4 этаже, выйдет в окно — кто эту ненормальную поймает?
К чему я всё это вспоминаю.
А к тому, что лучшему в мире папе сегодня исполнилось 74 года.
Живи много-много лет, папочка.
Мы тебя очень любим. Особенно Айк, который вынужден был отдуваться за старших сестёр, когда они, малодушно выросши, покинули родительский дом. Неубедительное владение историей армянского народа брат компенсировал исполнением военных маршей. Лишённый слуха и голоса, брал громкостью. Очевидцы утверждают, что под его немилосердное пение папа стремительно и с явным сожалением трезвел.
Так вот. За полувековую медицинскую практику папа всего два раза ломал клыки: своему отцу и своему же брату.
Но, вопреки бытующему мнению о врачах, он у нас не суеверный. Потому без страха и угрызений совести продолжал лечить близких и друзей. С особым остервенением — собственных детей.
Слава богу, делал он это стихийно. О наличии у нас зубов вспоминал, когда, как говорят в Берде, «гребешок у него подогревался». То есть в подпитии.
Стадий подогретости гребешка у папы было три.
Первую, самую лёгкую, мы назвали профилактической. Это когда, слегка подшофе, он выстраивал нас в шеренгу и бегло осматривал зубы. Доставалось всем кроме годовалой Сонечки, которая, с поразительной скоростью перемещая из одного уголка рта в другой пустышку, ползала у нас в ногах, почему-то попой вперёд.
По итогам осмотра папа выносил безапелляционный вердикт: Наринэ и Гаянэ завтра в 10 утра должны быть в поликлинике!
— Почему!? — возмущались мы.
— Кариес!
— А у Каринэ, значит, не кариес?
— У неё с зубами всё в порядке.
Каринку мы в этот вечер ненавидели с особой лютостью.
Вторую стадию папиного подпития мы называли забывчивой.
Потребовав широко раскрыть рот и насвистывая под нос эстрадно-незатейливое, он долго и вдумчиво разглядывал наши зубы, поддевая то одну, то другую щеку изогнутым пальцем. Сонечка, безмятежно гуля, размазывала по стене ненавистный шпинатный бебимикс.
— Тебя как зовут? — будто бы между делом любопытствовал папа, заглядывая в рот очередной дочери.
— Пып! — с укоризной мычали мы.
— Захрмар! Я один, а вас много. И всех зовут практически одинаково. Завтра ко мне!
— Жачем?
— Кариес. Как там вас? В общем, ты и ты! Чтоб в десять ноль-ноль были в поликлинике!
— А Каринэ?
— Ей не надо.
Ненависть к Каринке разрасталась до галактических масштабов.
Третью стадию папиного, хм, подпития мы называли патриотической — она будила в нём зов предков. Проведя беглый осмотр и вынеся приговор мне и Гаянэ, он усаживался в кресло, и, изящно заплетаясь языком, приступал к историческому ликбезу. Закончив с лекцией, переходил к вопросам. Мы держали ответ за границы Великой Армении (от моря до моря — от какого моря и до какого моря? — от Чёрного и до Каспия, только Каспий вроде не море — не умничайте!) За византийские армянские династии. За глиняный водопровод в городе Ани, который будет действовать даже после того, как остальные цивилизации исчезнут с лица земли. За Киликию, возлюбившего армянский язык Байрона и мхитаристов. Понемногу, накаляясь, дело доходило до Геноцида. Солнце уходило за горизонт и наступала полярная ночь. Папа усаживал меня за пианино — играть Комитаса. Каринка рисовала карту Западной Армении, отмечая крестиком героические очаги сопротивления. Гаянэ перечисляла боевых генералов, с чьей помощью мы одержали победу под Сардарапатом.
— И благодаря этой победе мы чегоооо??? — задавал наводящие вопросы папа.
— И благодаря этой победе восточные армяне избежали истребления и турки-османы своего не добились! — в один голос отвечали мы.
Растроганный недюжинными знаниями своих дочерей, папа принимался раздавать деньги: кому перепадало три рубля, кому вообще пять. Утром, протрезвев, он, конечно же, забирал их обратно, но оставлял каждой по пятьдесят копеек. На эти деньги можно было разжиться трубочкой с масляным кремом, коржиком, кульком семечек и воздушной кукурузой, именуемой в народе ади-буди. Гуляй рванина!
Вечером, заедая семечки коржиком и закусывая кислыми яблоками, сворованными из сада поликлиники, мы с Гаянэ наблюдали, как Каринка выдирает ноги очередному шебутному мальчику, по несчастью проживающему в ареале ее обитания.
— Может наша Каринка тоже турок-осман? — строила предположения Гаянэ.
— Вполне возможно, — соглашалась я, аристократично сплёвывая семечковую лузгу в ладошку.
Быть дочерью стоматолога — огромное счастье. Во-первых потому, что всегда есть возможность стащить медицинский пинцет, которым, прихватив кусочек дымящегося карбита, можно прожечь навылет спину какому-нибудь зловредному мальчику.
Во-вторых, у тебя под рукой всегда есть акриловая пластмасса. Какой это нужный в хозяйстве материал, знает любой ребенок, у которого папа — стоматолог. Этой пластмассой можно намертво приклеить что угодно и к чему угодно. Можно навонять класс до приступа мигрени у учителя. Можно налепить смертоносных пулек и истребить из рогатки Рубиков по всей республике. И даже за её пределами.
А еще быть дочерью стоматолога выгодно потому, что неубиваемых смешных историй в твоей жизни хоть отбавляй. Например, одна папина пациентка, жуткая трусиха, месяц готовилась к походу в поликлинику. В день икс она всё-таки туда пришла, зашла в папин кабинет, поздоровалась с ним и медсестрой, браво чеканя шаг, пошла к креслу, обошла его, и, вскарабкавшись на подоконник, выпрыгнула в окно. Счастье, что кабинет располагался на первом этаже.
Муж потом возвращал её с извинениями.
— Доктор джан, ты не думай, она со всеми так! Потому к нервапаталогу я её не отпускаю. У него кабинет на 4 этаже, выйдет в окно — кто эту ненормальную поймает?
К чему я всё это вспоминаю.
А к тому, что лучшему в мире папе сегодня исполнилось 74 года.
Живи много-много лет, папочка.
Мы тебя очень любим. Особенно Айк, который вынужден был отдуваться за старших сестёр, когда они, малодушно выросши, покинули родительский дом. Неубедительное владение историей армянского народа брат компенсировал исполнением военных маршей. Лишённый слуха и голоса, брал громкостью. Очевидцы утверждают, что под его немилосердное пение папа стремительно и с явным сожалением трезвел.
Published on February 02, 2019 08:38
January 7, 2019
Однажды, когда война чуть приутихла и в Берд стали привоз...
Однажды, когда война чуть приутихла и в Берд стали привозить продукты из большого мира, мамина коллега получила зарплату и немедленно спустила её на продукты. Денег хватило на три баночки тихоокеанской сайры, несколько пачек макарон и — фантастическое везение — два шоколадных батончика «Марс», которые до этого бердцам доводилось видеть только в телевизионной рекламе.
Мамина коллега несла продукты домой и представляла, как аккуратно разделит эти два сказочных батончика на восемь частей, каждый на четыре кусочка, и угостит своих детей (два мальчика и девочка), мужа, свёкра, свекровь и старенькую прасвекровь.
Она не думала о том, как тяжело выживать в блокадной стране учителю и инженеру, на попечении которых беспомощные дети и старики. Что в выходные снова выезжать на загородный участок — поливать картошку и собирать зелёную фасоль, и бог с ней, с тяжёлой работой, главное, чтобы не стреляли. Что в следующую субботу ей выбираться рейсовым автобусом в Ереван — шесть часов дороги в один конец, чтобы на бангладешской барахолке закупиться дешёвой косметикой. Племянник арендовал крохотный закут в бывшем доме культуры, чинил кипятильники и кофеварки, заодно тётин товар реализовал. Денег на перепродаже косметики выгадывали совсем мало, но что поделаешь. Они и выручали, эти деньги и урожай, собранный с огорода и участка.
— Никогда не унывай,— любила повторять старенькая прасвекровь, пережившая геноцид и обе мировые войны, а теперь ещё и третью войну заставшая,— главное, дочка, никогда не унывай. И не прекращай разговаривать с Господом, он всегда рядом, он — единственный, кто слышит тебя.
И мамина коллега старалась не унывать. Она несла своей семье шоколадные батончики и благодарила Бога за эту чудесную возможность. А ещё она думала о заповедях — не укради, не возжелай, не убий. И радовалась тому, до чего они ладные, правильные и непреложные.
Но вдруг посреди этого благостного диалога она подумала, что было бы здорово приберечь второй шоколадный батончик на завтра. Конечно, в этом случае каждому достанется по крохотному лепесточку сладкого, ну и ладно, зато счастье можно будет растянуть на два дня. Чтобы шоколад не нашли вездесущие дети, мамина коллега решила спрятать его не дома. Прокравшись на задний двор, она вытащила из сумки «Марс» и сунула под дождевую бочку, решив перепрятать позже.
Накормив семью макаронами с сайрой, напоив кофе и разделив на всех один батончик (себе кусочек выделять не стала — пусть остальным чуть больше достанется), она выскользнула из дома, извлекла из-под дождевой бочки второй батончик и понесла перепрятывать его в погреб.
Но дочка выбежала следом за ней и настигла на пороге погреба. Она повисла на матери, требуя показать, что та прячет в кармане. И мать стряхнул её с себя, грубо оттолкнула и захлопнула дверь погреба. Дочь стучала, требовала открыть, вопила — мама, что ты там прячешь, может ты что-то там ешь!!! А мать мало того, что задвинула щеколду, так зачем-то ещё подперла дверь спиной, и внезапно у неё помутился рассудок, потому что она сделала такое, чего никогда о себе не могла вообразить: она разодрала зубами обёртку и буквально сожрала этот несчастный «Марс». К тому времени к погребу прибежали сыновья, они тоже ломились в дверь и требовали открыть, а она давилась сладким и прикидывала в уме, как давно не ела так, чтобы наесться и уснуть на полный желудок, и высчитав — ужаснулась: девять лет недоедания, холода, обездоленности и беспросветной нищеты.
— И ты знаешь, Надя, мне не стыдно. Мне совсем не стыдно, что я одна съела этот шоколад. Я ведь, Надя, его заслужила, — рассказывала мамина коллега, утирая слёзы рукавом заношенного платья. Оно когда-то было очень красивым, это платье: цвета топлёного молока, с черными кружевными манжетами, воротник стоечкой, шесть пуговок в два ряда на груди. Она лет двадцать в нём проходила. На другое платье денег так и не смогла накопить.
Каждый раз, когда наступают эти долгожданные и прекрасные зимние праздники, и мы накрываем обильные столы и наряжаем ёлки, и верим, что уж этот год точно будет лучше, чем предыдущий, я вспоминаю о дарах, которые мне приносили волхвы.
Я вспоминаю мою прекрасную учительницу молодой и красивой, в шерстяном, цвета топлёного молока, платье и в ладных лодочках на невысоком каблуке. Она протягивает мне яблоко — на уроке у меня от голода закружилась голова, она вытащила из сумки яблоко и стояла над душой, пока я его не съела.
Я вспоминаю, как однажды мама вынесла из учительской (был чей-то юбилей) густо припорошенный сахарной пудрой, начинённый воздушным кремом эклер и радостным шёпотом сообщила, что он мой, потому что кто-то отказался от своей порции. И я с невообразимым наслаждением этот эклер съела, удивляясь, как можно было от такой вкуснотищи отказаться, и только потом, спустя годы, сообразила, что мама мне свою порцию отдала.
Я вспоминаю, как в нашей семье случились тяжёлые годы, денег было совсем мало, иногда не было вовсе, и мой семилетний сын, которому я ежедневно выдавала двадцать рублей на школьный завтрак, умудрился по копеечке сэкономить и однажды принёс нам большую коробку шоколадных конфет, и мы стояли на балконе, грелись солнцем, улыбались этому огромному чудесному городу, ели шоколад и верили, что всё непременно будет хорошо.
Мамина коллега несла продукты домой и представляла, как аккуратно разделит эти два сказочных батончика на восемь частей, каждый на четыре кусочка, и угостит своих детей (два мальчика и девочка), мужа, свёкра, свекровь и старенькую прасвекровь.
Она не думала о том, как тяжело выживать в блокадной стране учителю и инженеру, на попечении которых беспомощные дети и старики. Что в выходные снова выезжать на загородный участок — поливать картошку и собирать зелёную фасоль, и бог с ней, с тяжёлой работой, главное, чтобы не стреляли. Что в следующую субботу ей выбираться рейсовым автобусом в Ереван — шесть часов дороги в один конец, чтобы на бангладешской барахолке закупиться дешёвой косметикой. Племянник арендовал крохотный закут в бывшем доме культуры, чинил кипятильники и кофеварки, заодно тётин товар реализовал. Денег на перепродаже косметики выгадывали совсем мало, но что поделаешь. Они и выручали, эти деньги и урожай, собранный с огорода и участка.
— Никогда не унывай,— любила повторять старенькая прасвекровь, пережившая геноцид и обе мировые войны, а теперь ещё и третью войну заставшая,— главное, дочка, никогда не унывай. И не прекращай разговаривать с Господом, он всегда рядом, он — единственный, кто слышит тебя.
И мамина коллега старалась не унывать. Она несла своей семье шоколадные батончики и благодарила Бога за эту чудесную возможность. А ещё она думала о заповедях — не укради, не возжелай, не убий. И радовалась тому, до чего они ладные, правильные и непреложные.
Но вдруг посреди этого благостного диалога она подумала, что было бы здорово приберечь второй шоколадный батончик на завтра. Конечно, в этом случае каждому достанется по крохотному лепесточку сладкого, ну и ладно, зато счастье можно будет растянуть на два дня. Чтобы шоколад не нашли вездесущие дети, мамина коллега решила спрятать его не дома. Прокравшись на задний двор, она вытащила из сумки «Марс» и сунула под дождевую бочку, решив перепрятать позже.
Накормив семью макаронами с сайрой, напоив кофе и разделив на всех один батончик (себе кусочек выделять не стала — пусть остальным чуть больше достанется), она выскользнула из дома, извлекла из-под дождевой бочки второй батончик и понесла перепрятывать его в погреб.
Но дочка выбежала следом за ней и настигла на пороге погреба. Она повисла на матери, требуя показать, что та прячет в кармане. И мать стряхнул её с себя, грубо оттолкнула и захлопнула дверь погреба. Дочь стучала, требовала открыть, вопила — мама, что ты там прячешь, может ты что-то там ешь!!! А мать мало того, что задвинула щеколду, так зачем-то ещё подперла дверь спиной, и внезапно у неё помутился рассудок, потому что она сделала такое, чего никогда о себе не могла вообразить: она разодрала зубами обёртку и буквально сожрала этот несчастный «Марс». К тому времени к погребу прибежали сыновья, они тоже ломились в дверь и требовали открыть, а она давилась сладким и прикидывала в уме, как давно не ела так, чтобы наесться и уснуть на полный желудок, и высчитав — ужаснулась: девять лет недоедания, холода, обездоленности и беспросветной нищеты.
— И ты знаешь, Надя, мне не стыдно. Мне совсем не стыдно, что я одна съела этот шоколад. Я ведь, Надя, его заслужила, — рассказывала мамина коллега, утирая слёзы рукавом заношенного платья. Оно когда-то было очень красивым, это платье: цвета топлёного молока, с черными кружевными манжетами, воротник стоечкой, шесть пуговок в два ряда на груди. Она лет двадцать в нём проходила. На другое платье денег так и не смогла накопить.
Каждый раз, когда наступают эти долгожданные и прекрасные зимние праздники, и мы накрываем обильные столы и наряжаем ёлки, и верим, что уж этот год точно будет лучше, чем предыдущий, я вспоминаю о дарах, которые мне приносили волхвы.
Я вспоминаю мою прекрасную учительницу молодой и красивой, в шерстяном, цвета топлёного молока, платье и в ладных лодочках на невысоком каблуке. Она протягивает мне яблоко — на уроке у меня от голода закружилась голова, она вытащила из сумки яблоко и стояла над душой, пока я его не съела.
Я вспоминаю, как однажды мама вынесла из учительской (был чей-то юбилей) густо припорошенный сахарной пудрой, начинённый воздушным кремом эклер и радостным шёпотом сообщила, что он мой, потому что кто-то отказался от своей порции. И я с невообразимым наслаждением этот эклер съела, удивляясь, как можно было от такой вкуснотищи отказаться, и только потом, спустя годы, сообразила, что мама мне свою порцию отдала.
Я вспоминаю, как в нашей семье случились тяжёлые годы, денег было совсем мало, иногда не было вовсе, и мой семилетний сын, которому я ежедневно выдавала двадцать рублей на школьный завтрак, умудрился по копеечке сэкономить и однажды принёс нам большую коробку шоколадных конфет, и мы стояли на балконе, грелись солнцем, улыбались этому огромному чудесному городу, ели шоколад и верили, что всё непременно будет хорошо.
Published on January 07, 2019 04:14
December 14, 2018
Декабрь в Берде выдался милосердным: морозец ночи сменяет...
Декабрь в Берде выдался милосердным: морозец ночи сменяет робкое утреннее солнце, к полудню из-под того края неба, что свисает линялой шторой над истоком реки, выплывают стада усталых облаков. Сгрудившись у ломкого от неокрепшего льда берега, они принимаются пить — степенно и долго, словно в последний раз; утолив жажду — неторопливо уходят, медно позвякивая боталами, стирая ноющие ноги о неровное дно каменистой дороги — за Хали-кар, к распахнутому зеву Великаньей пещеры, где и исчезают — бесплотные и безмолвные, словно недосмотренные прошлогодние сны.
Из-под ржавой шелухи травы пробивается наивная молодая поросль, скудно выступают нежно-васильковым кудрявые головки клевера и трёпаные ветром колючие венчики чертополоха. На голых ветвях деревьев пестреет россыпь недоклёванных птицей ягод боярышника, тёрна, калины. Опушку леса усеяло орехами в почерневшей, тронутой плесенью кожуре — полевые мыши растащат всё дочиста к первому сильному морозу.
В горах сошли последние осенние подснежники, забылось беспробудным тягучим мороком Совиное ущелье, сумрачно и властно закурились к грядущим бурям непролазные вершины Миапора.
Берд и окрестные деревни затаили дыхание в предчувствии скорого снега.
Но декабрь милостив, и жизнь во дворах течёт своим чередом: перепутав холодное время с погожим, кудахчато несутся куры, самовлюблённо кулдыкают индюки, переругиваются через забор петухи, клёкают цесарки. В коптильнях доходят окорока, в погребах — местное кисло-терпкое вино, в бутылях тёмного стекла ждёт своего часа знаменитая шестидесятиградусная тутовка. Ассортимент продуктовых магазинчиков разнообразен и вызывающе переливчат — скоро праздники, накрывать столы, принимать гостей. Генеральная уборка в самом разгаре — моются в трёх водах окна, крахмалятся шторы, натираются мастикой полы.
— Гарник, сакваж забыл! — зовёт с веранды старенькая Аничка, размахивая модным, в заклёпках, кожаным рюкзаком.
— Нани, сколько раз говорил — не сакваж, а саквояж! А это! Это вообще рюкзак! — возмущается пятнадцатилетний правнук. Его слова тонут в беспардонном гоготе друзей.
— Чем громче смех — тем бестолковее голова! — едко комментирует Аничка.
Гогот утихает, наступает почтительная тишина.
— Иди забери свой сакваж, — подталкивает Гарика в спину кто-то из друзей. Тот огрызается, но плетётся к лестнице, ведущей на веранду.
Утро начинается со стука в дверь — к папе заглянул очередной пациент.
— Доктор-джан, всю ночь не спал, — доносится сквозь сдавленные стоны.
— Сейчас приду, — натягивает куртку отец.
Возвращается через полчаса, с пакетиком чищеного фундука и крохотной, с детский кулак, головкой козьего сыра. У людей нет денег, каждый расплачивается чем горазд. Иногда вообще не расплачиваются. Папа относится к этому философски, мама возмущается — ладно за работу денег не взял, так хоть за материалы возьми, ты ведь их не бесплатно покупаешь! Папа отмахивается.
Мы с детства привыкли к этим «дарам волхвов». Чего только ему не приносили: холщовые мешочки жареной пшеницы, горсти подмороженной мушмулы, картошку, соленья, яйца, яблоки, самогонку. Однажды вообще живую курицу принесли. Хотели в залог оставить. Пусть, говорят, поживёт у вас до получки, она нестись будет, два раза в день. Папа еле отбился. Несушка затмила мешок капусты и бидон солярки. Хорошо иметь в семье врача, всегда есть над чем посмеяться.
Когда папа отлучался, маме приходилось консультировать его пациентов. Объясняла, чем лечить воспаление дёсен, какие таблетки пить от боли и как делать раствор для полоскания. Потому люди звали её бжшкуи — докторша. Некоторые не сомневались, что она тоже умеет лечить. Искренне изумлялись, когда она им отказывала. Одна бабушка так вообще упрекнула:
— Бжшкуи джан, раз муж в отъезде, может ты вырвешь мне зуб? То есть как не умеешь? Совсем не умеешь? Столько лет замужем за зубным врачом и не научилась?
Из письма папы маме: «Передаю небольшую посылку, но для тебя там ничего нет. Не расстраивайся, моя любимая, подарок я тебе обязательно привезу. Брюки для Лёвы, сорочка — папе. Предупреди его, что бритвенные лезвия еле достал, так что он должен ими как минимум два года пользоваться.
Времени на стояние в очередях нет — до пяти часов на занятиях. Купил себе ботинки и кримпленовый костюм. И сразу же пожалел — есть костюмы лучше. Напиши, что взять тебе, я очень постараюсь достать. Скучаю по всем вам. Обнимаю, твой муж. 1974 год, Москва.»
Это всё, что я знаю о любви. Это всё, что я хочу о ней знать.
Не стало соседа Шаена. Ушёл в пятьдесят шесть — не выдержало сердце. Некому теперь, запрокинув голову, самозабвенно звать свою Жулет. И Жулет теперь некому варить кофе и нести дымящуюся чашечку с горстью карамельных конфет четыре лестничных пролёта вниз. Закончилась ещё одна история счастья — деревенского и чистого, словно протёртое росой утреннее апрельское небо. Словно сладкий фиалковый дух. Словно невесомый одуванчиковый пух.
Берд тих и печален. Берд смертен и бесконечен. Но скоро Новый год, скоро новая жизнь. Вечерами острый от влаги воздух смешивается с дымом дровяных печек и шумом затерявшегося в зарослях иссушенной осоки ветра, хлопает ставнями чердачных окон и трухлявыми створками калиток. Свернувшись по-кошачьи возле входа в конуру, дразнит дворового пса. Подхватив эхо его брюзгливого лая, взмывает к крыше, устраивается на самом краешке, согревает озябшие ладони своим дыханием. Караулит снег.
Мне скоро уезжать. Сердце от предстоящей разлуки ноет так, будто его придавили камнем.
Мне скоро уезжать. Но пока я здесь. Я — здесь.
Из-под ржавой шелухи травы пробивается наивная молодая поросль, скудно выступают нежно-васильковым кудрявые головки клевера и трёпаные ветром колючие венчики чертополоха. На голых ветвях деревьев пестреет россыпь недоклёванных птицей ягод боярышника, тёрна, калины. Опушку леса усеяло орехами в почерневшей, тронутой плесенью кожуре — полевые мыши растащат всё дочиста к первому сильному морозу.
В горах сошли последние осенние подснежники, забылось беспробудным тягучим мороком Совиное ущелье, сумрачно и властно закурились к грядущим бурям непролазные вершины Миапора.
Берд и окрестные деревни затаили дыхание в предчувствии скорого снега.
Но декабрь милостив, и жизнь во дворах течёт своим чередом: перепутав холодное время с погожим, кудахчато несутся куры, самовлюблённо кулдыкают индюки, переругиваются через забор петухи, клёкают цесарки. В коптильнях доходят окорока, в погребах — местное кисло-терпкое вино, в бутылях тёмного стекла ждёт своего часа знаменитая шестидесятиградусная тутовка. Ассортимент продуктовых магазинчиков разнообразен и вызывающе переливчат — скоро праздники, накрывать столы, принимать гостей. Генеральная уборка в самом разгаре — моются в трёх водах окна, крахмалятся шторы, натираются мастикой полы.
— Гарник, сакваж забыл! — зовёт с веранды старенькая Аничка, размахивая модным, в заклёпках, кожаным рюкзаком.
— Нани, сколько раз говорил — не сакваж, а саквояж! А это! Это вообще рюкзак! — возмущается пятнадцатилетний правнук. Его слова тонут в беспардонном гоготе друзей.
— Чем громче смех — тем бестолковее голова! — едко комментирует Аничка.
Гогот утихает, наступает почтительная тишина.
— Иди забери свой сакваж, — подталкивает Гарика в спину кто-то из друзей. Тот огрызается, но плетётся к лестнице, ведущей на веранду.
Утро начинается со стука в дверь — к папе заглянул очередной пациент.
— Доктор-джан, всю ночь не спал, — доносится сквозь сдавленные стоны.
— Сейчас приду, — натягивает куртку отец.
Возвращается через полчаса, с пакетиком чищеного фундука и крохотной, с детский кулак, головкой козьего сыра. У людей нет денег, каждый расплачивается чем горазд. Иногда вообще не расплачиваются. Папа относится к этому философски, мама возмущается — ладно за работу денег не взял, так хоть за материалы возьми, ты ведь их не бесплатно покупаешь! Папа отмахивается.
Мы с детства привыкли к этим «дарам волхвов». Чего только ему не приносили: холщовые мешочки жареной пшеницы, горсти подмороженной мушмулы, картошку, соленья, яйца, яблоки, самогонку. Однажды вообще живую курицу принесли. Хотели в залог оставить. Пусть, говорят, поживёт у вас до получки, она нестись будет, два раза в день. Папа еле отбился. Несушка затмила мешок капусты и бидон солярки. Хорошо иметь в семье врача, всегда есть над чем посмеяться.
Когда папа отлучался, маме приходилось консультировать его пациентов. Объясняла, чем лечить воспаление дёсен, какие таблетки пить от боли и как делать раствор для полоскания. Потому люди звали её бжшкуи — докторша. Некоторые не сомневались, что она тоже умеет лечить. Искренне изумлялись, когда она им отказывала. Одна бабушка так вообще упрекнула:
— Бжшкуи джан, раз муж в отъезде, может ты вырвешь мне зуб? То есть как не умеешь? Совсем не умеешь? Столько лет замужем за зубным врачом и не научилась?
Из письма папы маме: «Передаю небольшую посылку, но для тебя там ничего нет. Не расстраивайся, моя любимая, подарок я тебе обязательно привезу. Брюки для Лёвы, сорочка — папе. Предупреди его, что бритвенные лезвия еле достал, так что он должен ими как минимум два года пользоваться.
Времени на стояние в очередях нет — до пяти часов на занятиях. Купил себе ботинки и кримпленовый костюм. И сразу же пожалел — есть костюмы лучше. Напиши, что взять тебе, я очень постараюсь достать. Скучаю по всем вам. Обнимаю, твой муж. 1974 год, Москва.»
Это всё, что я знаю о любви. Это всё, что я хочу о ней знать.
Не стало соседа Шаена. Ушёл в пятьдесят шесть — не выдержало сердце. Некому теперь, запрокинув голову, самозабвенно звать свою Жулет. И Жулет теперь некому варить кофе и нести дымящуюся чашечку с горстью карамельных конфет четыре лестничных пролёта вниз. Закончилась ещё одна история счастья — деревенского и чистого, словно протёртое росой утреннее апрельское небо. Словно сладкий фиалковый дух. Словно невесомый одуванчиковый пух.
Берд тих и печален. Берд смертен и бесконечен. Но скоро Новый год, скоро новая жизнь. Вечерами острый от влаги воздух смешивается с дымом дровяных печек и шумом затерявшегося в зарослях иссушенной осоки ветра, хлопает ставнями чердачных окон и трухлявыми створками калиток. Свернувшись по-кошачьи возле входа в конуру, дразнит дворового пса. Подхватив эхо его брюзгливого лая, взмывает к крыше, устраивается на самом краешке, согревает озябшие ладони своим дыханием. Караулит снег.
Мне скоро уезжать. Сердце от предстоящей разлуки ноет так, будто его придавили камнем.
Мне скоро уезжать. Но пока я здесь. Я — здесь.
Published on December 14, 2018 07:53
November 15, 2018
Книга "С неба упали три яблока" вышла на итальянском, в и...
Книга "С неба упали три яблока" вышла на итальянском, в издательстве Francesco Brioschi Editore srl.
Планируются две презентации:
Комо, 17 ноября, 18:00,
книжный магазин "Ubik" (Piazza San Fedele 32, 22100)
Милан, 18 ноября, 18:00,
Fondazione Pini (Corso Garibaldi 2)
Приходите, если в эти дни будете в Милане или в Комо, поговорим-посмеёмся-пообнимаемся.
Огромная благодарность моим агентам Юле Гумен и Наташе Банке. Девочки, вы лучшие. Спасибо.
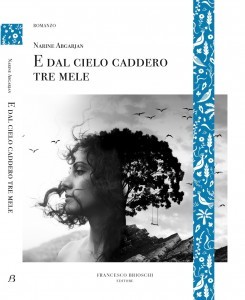
Планируются две презентации:
Комо, 17 ноября, 18:00,
книжный магазин "Ubik" (Piazza San Fedele 32, 22100)
Милан, 18 ноября, 18:00,
Fondazione Pini (Corso Garibaldi 2)
Приходите, если в эти дни будете в Милане или в Комо, поговорим-посмеёмся-пообнимаемся.
Огромная благодарность моим агентам Юле Гумен и Наташе Банке. Девочки, вы лучшие. Спасибо.
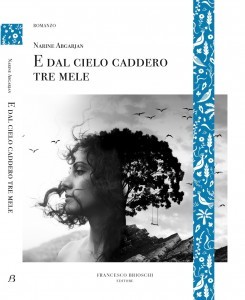
Published on November 15, 2018 21:29
November 13, 2018
Эву пригласили на празднование дня рождения. Одноклассниц...
Эву пригласили на празднование дня рождения. Однокласснице Беатрис, закадычной подруге и соратнице, исполнялось семь. Кроме Эвы на торжестве предполагались сэндвичи с индейкой и сыром, огуречный салат, торт со взбитыми сливками и ванильное мороженое. А также кузина именинницы Маргарет, десяти с половиной лет, умеющая левой ноздрёй выдувать мыльные пузыри.
— А правой что она умеет? — заволновалась Эва.
Беатрис неопределённо пожала плечом и сделала страшные глаза.
Эва скинула матери таинственную смску: «Mommichka, i need many bubbles for my nose», снисходительно поколотила мальчика Гарри (снова лез целоваться), и, проигнорировав кружки танцев, художественной гимнастики и шитья, убежала играть в футбол.
Каринка явилась на продлёнку без «мени бабблз фор май ноз». За что и поплатилась. Расстроенная Эва заявила, что домой без мыльных пузырей не поедет и вцепилась в футбольные ворота. Увещевать отцепиться прибегала вся продлёнка и даже охрана. Потерпели сокрушительно поражение. Земля бы налетела на небесную ось, если бы им удалось её убедить.
Спустя час переговоров тренер готов был отказаться от ворот, и даже вызвался сбегать за лопатой — чтоб их выкопать.
— Заберёте её домой с воротами, благо, размеры вашего багажника позволяют!
— Зачем откапывать ворота, если можно просто кого-то прямо здесь закопать и тем самым решить проблему? — задумчиво спросила Каринка.
Ехали домой в абсолютной тишине.
— Вообще-то за убийство детей сажают в тюрьму! — объявила за ужином Эва.
— Уверена, меня оправдают, — отрезала Каринка.
Спать легли рано.
Бостонское утро застало Эву за нанесением макияжа. Пудра, немного блеска для губ — нагнетать не нужно, мать от вчерашнего ещё не отошла, тоже мне цаца. Да и соседку миссис Марию жалко. На той неделе Эва довела её до громкой икоты, намазюкавшись блескучими тенями по самые локти.
Наряд выбирала недолго — поджимало время, скоро зазвенит будильник: бархатное платье, лосины в горошек, мамины сапоги на каблуках, замшевые, мягкие, можно голенищем пыль с подоконника протирать, можно ножницами в меленькую лапшу покрошить, а можно серебристым фломастером накарябать запретное слово на букву «f», которому научил класс тихий мальчик Тимоти (веснушки, жёваные шорты, круглые очки, кто бы мог подумать). Мисс Малавайз чуть в обморок не грохнулась, обнаружив на доске это слово.
— Надеюсь, вы его не запомнили, — обратилась она к ученикам, до блеска оттерев доску.
— Конечно запомнили! — по-военному чётко прогремел класс.
На аксессуары ушла целая вечность. Эва остановила свой выбор на жёлтой кожаной сумочке и платке с белым павлином, который буквально вчера дорисовала мать. Платок был рождественским подарком для тёти Наринэ, но Эва рассудила, что от тёти не убудет, если она разочек выйдет в её подарке в свет.
Набрызгавшись духами и нацепив на нос солнечные очки, она бесшумно выскользнула во двор.
— Не ну ты представляешь? — рассказывает с негодованием Каринка. — Просыпаюсь от грохота — это, оказывается, входная дверь захлопнулась. Выбегаю в пижаме на улицу. Хорошо, что она в моих сапогах была, иначе я бы её не догнала! Вообрази лица родителей Беатрис, к которым она бы ни свет ни заря явилась! В гости! За два дня до праздника! Вот ты мне скажи, почему она в меня пошла? Почему не в тебя, например? Или в какого-нибудь другого варёного веника?
Я мычу в ответ нечленораздельное. Вспоминаю, как Каринка и наша двоюродная сестра Сирануйш запустили целую флотилию цыплят в дождевую бочку. Из чистого интереса — выплывут или ко дну пойдут. К счастью, рядом оказалась тётя Жено, которая несла нам горячие пирожки. Закалённая выходками племянниц тётя опрокинула на грядку с кинзой угощение и, резво орудуя миской, вычерпнула из бочки цыплят. Пирожки мы потом отряхнули и всё равно съели (возмущение мамы нани купировала убедительным «Надя, ну что ты так переживаешь, это чистая деревенская грязь, от неё одна польза!»)
— А что, кузина Маргарет действительно умеет выдувать левой ноздрёй мыльные пузыри? — увожу разговор в сторону я.
— Действительно.
— Как?
Каринка смотрит на меня долгим немигающим взглядом.
— Повторить хочешь, дебилик джан? Запоминай: закапываешь в нос мыльную жидкость, зажимаешь одну ноздрю пальцем и выдуваешь.
— И куда её родители смотрят?
— Туда же, куда наши смотрели!
— На надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий»?
— Именно!
Вчера Каринка получила новую интригующую смску: «Mommicka, i need a big piano!» Ехала за дочерью с ужасом в сердце. Представляла, как охрана школы делает ставки в букмекерских конторах: один к тысяче, что школьный рояль придётся поджечь, чтобы отодрать от него Эву.
В музыкальном классе Каринка застала дивную картину: на крышке рояля, с обеих концов, сидели две учительницы, мисс Малавайз и миссис Крамер. Эва, вцепившись в крышку рояля, пыталась её поднять.
— Нет, Эва, нет, — увещевали хором учительницы. — Рояль — не игрушка, нельзя по клавишам дубасить чем попало!
Эва молчала. И весь её вид — широко расставленные ноги, торчащие локти, вцепившиеся намертво в крышку рояля побледневшие пальцы, хохолок на темечке, — весь этот непокорённый её вид говорил лишь об одном: главное, абанамат, не сдаваться!


— А правой что она умеет? — заволновалась Эва.
Беатрис неопределённо пожала плечом и сделала страшные глаза.
Эва скинула матери таинственную смску: «Mommichka, i need many bubbles for my nose», снисходительно поколотила мальчика Гарри (снова лез целоваться), и, проигнорировав кружки танцев, художественной гимнастики и шитья, убежала играть в футбол.
Каринка явилась на продлёнку без «мени бабблз фор май ноз». За что и поплатилась. Расстроенная Эва заявила, что домой без мыльных пузырей не поедет и вцепилась в футбольные ворота. Увещевать отцепиться прибегала вся продлёнка и даже охрана. Потерпели сокрушительно поражение. Земля бы налетела на небесную ось, если бы им удалось её убедить.
Спустя час переговоров тренер готов был отказаться от ворот, и даже вызвался сбегать за лопатой — чтоб их выкопать.
— Заберёте её домой с воротами, благо, размеры вашего багажника позволяют!
— Зачем откапывать ворота, если можно просто кого-то прямо здесь закопать и тем самым решить проблему? — задумчиво спросила Каринка.
Ехали домой в абсолютной тишине.
— Вообще-то за убийство детей сажают в тюрьму! — объявила за ужином Эва.
— Уверена, меня оправдают, — отрезала Каринка.
Спать легли рано.
Бостонское утро застало Эву за нанесением макияжа. Пудра, немного блеска для губ — нагнетать не нужно, мать от вчерашнего ещё не отошла, тоже мне цаца. Да и соседку миссис Марию жалко. На той неделе Эва довела её до громкой икоты, намазюкавшись блескучими тенями по самые локти.
Наряд выбирала недолго — поджимало время, скоро зазвенит будильник: бархатное платье, лосины в горошек, мамины сапоги на каблуках, замшевые, мягкие, можно голенищем пыль с подоконника протирать, можно ножницами в меленькую лапшу покрошить, а можно серебристым фломастером накарябать запретное слово на букву «f», которому научил класс тихий мальчик Тимоти (веснушки, жёваные шорты, круглые очки, кто бы мог подумать). Мисс Малавайз чуть в обморок не грохнулась, обнаружив на доске это слово.
— Надеюсь, вы его не запомнили, — обратилась она к ученикам, до блеска оттерев доску.
— Конечно запомнили! — по-военному чётко прогремел класс.
На аксессуары ушла целая вечность. Эва остановила свой выбор на жёлтой кожаной сумочке и платке с белым павлином, который буквально вчера дорисовала мать. Платок был рождественским подарком для тёти Наринэ, но Эва рассудила, что от тёти не убудет, если она разочек выйдет в её подарке в свет.
Набрызгавшись духами и нацепив на нос солнечные очки, она бесшумно выскользнула во двор.
— Не ну ты представляешь? — рассказывает с негодованием Каринка. — Просыпаюсь от грохота — это, оказывается, входная дверь захлопнулась. Выбегаю в пижаме на улицу. Хорошо, что она в моих сапогах была, иначе я бы её не догнала! Вообрази лица родителей Беатрис, к которым она бы ни свет ни заря явилась! В гости! За два дня до праздника! Вот ты мне скажи, почему она в меня пошла? Почему не в тебя, например? Или в какого-нибудь другого варёного веника?
Я мычу в ответ нечленораздельное. Вспоминаю, как Каринка и наша двоюродная сестра Сирануйш запустили целую флотилию цыплят в дождевую бочку. Из чистого интереса — выплывут или ко дну пойдут. К счастью, рядом оказалась тётя Жено, которая несла нам горячие пирожки. Закалённая выходками племянниц тётя опрокинула на грядку с кинзой угощение и, резво орудуя миской, вычерпнула из бочки цыплят. Пирожки мы потом отряхнули и всё равно съели (возмущение мамы нани купировала убедительным «Надя, ну что ты так переживаешь, это чистая деревенская грязь, от неё одна польза!»)
— А что, кузина Маргарет действительно умеет выдувать левой ноздрёй мыльные пузыри? — увожу разговор в сторону я.
— Действительно.
— Как?
Каринка смотрит на меня долгим немигающим взглядом.
— Повторить хочешь, дебилик джан? Запоминай: закапываешь в нос мыльную жидкость, зажимаешь одну ноздрю пальцем и выдуваешь.
— И куда её родители смотрят?
— Туда же, куда наши смотрели!
— На надпись «Оставь надежду всяк сюда входящий»?
— Именно!
Вчера Каринка получила новую интригующую смску: «Mommicka, i need a big piano!» Ехала за дочерью с ужасом в сердце. Представляла, как охрана школы делает ставки в букмекерских конторах: один к тысяче, что школьный рояль придётся поджечь, чтобы отодрать от него Эву.
В музыкальном классе Каринка застала дивную картину: на крышке рояля, с обеих концов, сидели две учительницы, мисс Малавайз и миссис Крамер. Эва, вцепившись в крышку рояля, пыталась её поднять.
— Нет, Эва, нет, — увещевали хором учительницы. — Рояль — не игрушка, нельзя по клавишам дубасить чем попало!
Эва молчала. И весь её вид — широко расставленные ноги, торчащие локти, вцепившиеся намертво в крышку рояля побледневшие пальцы, хохолок на темечке, — весь этот непокорённый её вид говорил лишь об одном: главное, абанамат, не сдаваться!


Published on November 13, 2018 01:32
October 24, 2018
Англию невозможно снимать крупным планом, это словно пыта...
Англию невозможно снимать крупным планом, это словно пытаться зачерпнуть в ладони океан. Потому я старалась снимать её с небольшого фокусного расстояния. С сожалением потом удаляла из памяти телефона беспомощные кадры. Того влюблённо-благодарного ощущения от страны поймать в объектив мне так и не удалось.
.
Обнаружила родную мушмулу в лондонском парке. Не жёлто-крупную, сочную, а горную, есть которую можно только после того, как её прихватит крепким морозом. Привет, говорю, цавд танем, привет.
Родина даёт о себе знать с первого дня пребывания в другой стране. Получила в подарок перевязанную нарядной лентой коробочку. Надпись на ней гласила: «Дорогой Наринэ от т. Мареты с любовью». Приоткрыла — а там румяные кусочки сладкой гаты.
Пора уже на манер зицпредседателя Фунта всем хвастливо рассказывать: «В Париже мне гату дарили, в Сан-Диего дарили, в Торонто дарили, а знали бы вы, какую мне гату в Англии дарили!»
Лондон невероятно дорогой город. Но не для гостящих там армян. При приезде очередного земляка диаспора незамедлительно включает режим заботливой мамочки: приглашает в гости, накрывает столы, строго следит, чтобы ты поела всего, и чтоб не забыла корочкой хлеба протереть дно тарелки, а то жених лицом не выйдет!
Нормальные люди в поездках худеют, а я наела себе лишние щёки.
.
По воскресеньям на углу Бейкер-стрит открывается фермерский рынок. При виде сырного прилавка незамедлительно лезу в сумку за телефоном.
— Надеюсь, вы не меня снимаете, — предупреждает продавщица.
— Ну что вы, только сыр! — с жаром уверяю я.
Моя решительность её забавляет.
— Не знаю теперь — обижаться за игнор или благодарить.
Накупила сыра, этого и того, и обязательно голубого ноттингемширского «Стилтона», и винтажного «Чеддера», и сливочно-вязкого, в твёрдой корочке, батского.
Сыроварне почти 500 лет, открыта в 1540 году. Счастливые англичане, их обошли разрушительные набеги кочевников, им не выкорчёвывали корни и не обрубали кроны. Потому одна семья может позволить себе владеть сыроварней полтысячи лет.
Нужно было попроситься к ним в подмастерья. Мечта жизни — написать книгу о сыре. Люблю я его какой-то унижающей человеческое достоинство любовью, везу отовсюду, совсем отовсюду (даже из несырной Южной Кореи умудрилась). Так хотя бы нужно эту маниакальную любовь направить в какое-нибудь менее разрушительное для бюджета русло!
Дежурный вопрос сына:
— Мам, ты что кроме сыра везёшь?
.
Ещё одна слабость — авокадо. Если среди вас тоже есть авокадные маньяки — обязательно загляните в «Avobar» на Генриетта-стрит в Ковент Гардене. Мне там было настоящее счастье. В детстве я мечтала стать продавщицей мороженого, чтобы есть шоколадный пломбир в неограниченных количествах. Теперь у меня другая мечта: работать на сыроварне, а вечерами забиваться в угол «Авобара», и, запивая тосты с авокадо и малосольным лососем чёрным кофе, сочинять заметки.
В прошлой жизни я определённо была австралийской мышью Рокфором.
.
Кстати, мама с детства приучала нас ко всяким необычным сырам. Один из любимых бутербродов — подогретый ломоть хлеба с маслом, рокфором и долькой болгарского перца. Или огурцом.
Повезло нам с мамой, чего уж там. Могла дорогущий сыр есть сама. А она нас, малолетних балбесов, приучала к красоте. Дефицитного рокфора доставалось всем по чуть-чуть, а вот любви и способности оценить прекрасное хватило на всю жизнь.
Спасибо, мамочка, спасибо.
.
Удивительно и радостно ходить по большому и разнообразному городу, и внезапно, свернув в какой-нибудь «Косой переулок», обнаружить крохотные, прижавшиеся друг к другу домики с несоразмерно большими воротами.
— Это мьюзхаусы, — объясняет подруга Кристина. — Раньше на первом этаже располагались конюшни и каретный сарай, на втором проживали конюхи и кучера. Сейчас в этих домах живут обычные лондонцы. Сносить высоченные ворота они не имеют права, иначе испортится исторический облик построек.
Заметили на стене одного такого домика трогательную табличку «Frank&Pat live here». Стоим, умиляемся.
Из-за угла показывается пожилая женщина, катит продуктовую сумку на колёсиках.
— Пэт — это я! — приветливо машет она нам. — Пэт — это я!
К дому, где живёт любовь, можно прислониться щекой — и погреться.
.
Одинокая скамейка в парке. К подлокотнику привязан букетик лаванды. Рядом лежит подмокшая от дождя открытка. «В память о том, кто любил смеяться».
.
На целую вечность замираем перед витриной с забытыми вещами, у которых так и не нашлись хозяева. Виниловые пластинки, книжки, котелок, баночка джема, фотокамера. Утюг, оставленный в автобусе №23 в 1934 году. Записная книжка с Авой Гарднер на обложке, забытая в 1940 году в такси. Чуть ли не первая модель мобильного телефона, размером с фанерный чемодан. Найдена на Бейкер-стрит в 1988 году. Мишка Паддингтон с биркой, где указаны даты жизни Майкла Бонда. И надпись-обещание: «Да, мы позаботимся о нём».
.
Магазинчик «James Smith & Sons», аксессуары для джентльменов: зонты, трости, фляжки. Шляпная мастерская, где можно выбрать модель шляпки и подобрать к ней украшения, и, при желании, самой поучаствовать в её создании. Паб со старыми скрипучими полами и весёлым барменом: «Леди, вы заглянули за две минуты до открытия. Я могу развлекать вас эти две минуты историями из жизни моей соседки, она, знаете ли, любит очень громко рассказывать о себе по телефону».
Внезапно обнаруживаешь себя в эпицентре вихря всего, что знакомо и любимо чуть ли не с того дня, как себя помнишь. Все эти крошки Ру и Алисы из Зазеркалья, дядюшки Поджеры и Тэссы из рода д’Эрбервиллей, Шерлоки Холмсы, Джейн Эйры, Мэри Поппинсы и Реджинальды Дживсы, они словно машут тебе и приговаривают — ты считала, что нас придумали. А мы есть. Мы — здесь.
И не покидает ощущение, что ты оказался в стране, где сбываются мечты.
.
Цитата дня в книжном: «You only live once, but if you do it right, once is enough».
Мэй Уэст. Та самая, которой принадлежат слова «Когда я хорошая, я очень хорошая. Когда я плохая, я ещё лучше».
.
Поймала своё отражение в жёлтой волне Темзы.
Я реку запомню, она меня — нет.
.
Улетала с щемящим чувством утраты, нежным и светлым, словно далёкий зов родного дома.
И позади у меня лежало великое будущее (с).

.
Обнаружила родную мушмулу в лондонском парке. Не жёлто-крупную, сочную, а горную, есть которую можно только после того, как её прихватит крепким морозом. Привет, говорю, цавд танем, привет.
Родина даёт о себе знать с первого дня пребывания в другой стране. Получила в подарок перевязанную нарядной лентой коробочку. Надпись на ней гласила: «Дорогой Наринэ от т. Мареты с любовью». Приоткрыла — а там румяные кусочки сладкой гаты.
Пора уже на манер зицпредседателя Фунта всем хвастливо рассказывать: «В Париже мне гату дарили, в Сан-Диего дарили, в Торонто дарили, а знали бы вы, какую мне гату в Англии дарили!»
Лондон невероятно дорогой город. Но не для гостящих там армян. При приезде очередного земляка диаспора незамедлительно включает режим заботливой мамочки: приглашает в гости, накрывает столы, строго следит, чтобы ты поела всего, и чтоб не забыла корочкой хлеба протереть дно тарелки, а то жених лицом не выйдет!
Нормальные люди в поездках худеют, а я наела себе лишние щёки.
.
По воскресеньям на углу Бейкер-стрит открывается фермерский рынок. При виде сырного прилавка незамедлительно лезу в сумку за телефоном.
— Надеюсь, вы не меня снимаете, — предупреждает продавщица.
— Ну что вы, только сыр! — с жаром уверяю я.
Моя решительность её забавляет.
— Не знаю теперь — обижаться за игнор или благодарить.
Накупила сыра, этого и того, и обязательно голубого ноттингемширского «Стилтона», и винтажного «Чеддера», и сливочно-вязкого, в твёрдой корочке, батского.
Сыроварне почти 500 лет, открыта в 1540 году. Счастливые англичане, их обошли разрушительные набеги кочевников, им не выкорчёвывали корни и не обрубали кроны. Потому одна семья может позволить себе владеть сыроварней полтысячи лет.
Нужно было попроситься к ним в подмастерья. Мечта жизни — написать книгу о сыре. Люблю я его какой-то унижающей человеческое достоинство любовью, везу отовсюду, совсем отовсюду (даже из несырной Южной Кореи умудрилась). Так хотя бы нужно эту маниакальную любовь направить в какое-нибудь менее разрушительное для бюджета русло!
Дежурный вопрос сына:
— Мам, ты что кроме сыра везёшь?
.
Ещё одна слабость — авокадо. Если среди вас тоже есть авокадные маньяки — обязательно загляните в «Avobar» на Генриетта-стрит в Ковент Гардене. Мне там было настоящее счастье. В детстве я мечтала стать продавщицей мороженого, чтобы есть шоколадный пломбир в неограниченных количествах. Теперь у меня другая мечта: работать на сыроварне, а вечерами забиваться в угол «Авобара», и, запивая тосты с авокадо и малосольным лососем чёрным кофе, сочинять заметки.
В прошлой жизни я определённо была австралийской мышью Рокфором.
.
Кстати, мама с детства приучала нас ко всяким необычным сырам. Один из любимых бутербродов — подогретый ломоть хлеба с маслом, рокфором и долькой болгарского перца. Или огурцом.
Повезло нам с мамой, чего уж там. Могла дорогущий сыр есть сама. А она нас, малолетних балбесов, приучала к красоте. Дефицитного рокфора доставалось всем по чуть-чуть, а вот любви и способности оценить прекрасное хватило на всю жизнь.
Спасибо, мамочка, спасибо.
.
Удивительно и радостно ходить по большому и разнообразному городу, и внезапно, свернув в какой-нибудь «Косой переулок», обнаружить крохотные, прижавшиеся друг к другу домики с несоразмерно большими воротами.
— Это мьюзхаусы, — объясняет подруга Кристина. — Раньше на первом этаже располагались конюшни и каретный сарай, на втором проживали конюхи и кучера. Сейчас в этих домах живут обычные лондонцы. Сносить высоченные ворота они не имеют права, иначе испортится исторический облик построек.
Заметили на стене одного такого домика трогательную табличку «Frank&Pat live here». Стоим, умиляемся.
Из-за угла показывается пожилая женщина, катит продуктовую сумку на колёсиках.
— Пэт — это я! — приветливо машет она нам. — Пэт — это я!
К дому, где живёт любовь, можно прислониться щекой — и погреться.
.
Одинокая скамейка в парке. К подлокотнику привязан букетик лаванды. Рядом лежит подмокшая от дождя открытка. «В память о том, кто любил смеяться».
.
На целую вечность замираем перед витриной с забытыми вещами, у которых так и не нашлись хозяева. Виниловые пластинки, книжки, котелок, баночка джема, фотокамера. Утюг, оставленный в автобусе №23 в 1934 году. Записная книжка с Авой Гарднер на обложке, забытая в 1940 году в такси. Чуть ли не первая модель мобильного телефона, размером с фанерный чемодан. Найдена на Бейкер-стрит в 1988 году. Мишка Паддингтон с биркой, где указаны даты жизни Майкла Бонда. И надпись-обещание: «Да, мы позаботимся о нём».
.
Магазинчик «James Smith & Sons», аксессуары для джентльменов: зонты, трости, фляжки. Шляпная мастерская, где можно выбрать модель шляпки и подобрать к ней украшения, и, при желании, самой поучаствовать в её создании. Паб со старыми скрипучими полами и весёлым барменом: «Леди, вы заглянули за две минуты до открытия. Я могу развлекать вас эти две минуты историями из жизни моей соседки, она, знаете ли, любит очень громко рассказывать о себе по телефону».
Внезапно обнаруживаешь себя в эпицентре вихря всего, что знакомо и любимо чуть ли не с того дня, как себя помнишь. Все эти крошки Ру и Алисы из Зазеркалья, дядюшки Поджеры и Тэссы из рода д’Эрбервиллей, Шерлоки Холмсы, Джейн Эйры, Мэри Поппинсы и Реджинальды Дживсы, они словно машут тебе и приговаривают — ты считала, что нас придумали. А мы есть. Мы — здесь.
И не покидает ощущение, что ты оказался в стране, где сбываются мечты.
.
Цитата дня в книжном: «You only live once, but if you do it right, once is enough».
Мэй Уэст. Та самая, которой принадлежат слова «Когда я хорошая, я очень хорошая. Когда я плохая, я ещё лучше».
.
Поймала своё отражение в жёлтой волне Темзы.
Я реку запомню, она меня — нет.
.
Улетала с щемящим чувством утраты, нежным и светлым, словно далёкий зов родного дома.
И позади у меня лежало великое будущее (с).

Published on October 24, 2018 08:49
October 12, 2018
Описывать Англию — занятие бессмысленное и беспомощное. Э...
Описывать Англию — занятие бессмысленное и беспомощное. Это как оказаться ребёнком в сказке: тебе дано увидеть чудо, но не дано о нём рассказать. Всё, что ты можешь себе позволить — это наблюдать. Города, которым никогда не быть твоими. Дома, машины, скверы. Птиц, каменных львов и людей. Девушку в платье Мэрилин Монро и стоптанных кроссовках, джентльмена во фраке, крохотную старенькую китаянку в бумажной короне, белокурого мальчика с перемазанными мороженым личиком — и невозмутимый голос его матери: Эндрю, в следующий раз я таки буду вынуждена указать стрелочками направление к твоему рту!
Англичане вдумчивы и отстранённы. Улыбке они предпочитают извинение. Если все произнесённые ими «sorry» перевести в смех, англичане определённо обретут бессмертие.
Из подслушанного:
— Ты зачем улыбаешься?
— Я улыбаюсь, потому что мне больно.
— Брось маяться ерундой, лучше выпей чего-нибудь.
Наделали шороху, заселяясь в гостиницу.
Забронировали с подругой номер с раздельными кроватями, а они заселили нас в номер с двуспальной.
— Мы не пара! — сердито объявляет она сконфуженному менеджеру.
— Зачем им подробности твоей личной жизни? — смеюсь я.
Марина дёргает плечом:
— После истории с отравлением надо перестраховаться!
Новые лаковые туфли, не замеченные ранее ни в чём подозрительном, выкинули фортель: стали немилосердно скрипеть. Скрыть этот скрип было возможно только одним способом — снять туфли, выйти на сцену босой и обуться там. От этого варианта, как и от версии выдвинуться из-за кулис ползком, пришлось отказаться. Беда заключалась в том, что мне нужно было выйти к читателю из узкого неосвещённого прохода в задней части сцены. Представляли с девушками-организаторами, как я, лаково скрипя туфлями, в могильной тишине побираюсь по проходу, и, споткнувшись о какую-то железяку, с грохотом падаю. В зале воцаряется могильная тишина, за кулисами — тоже. Смеялись до икоты.
Спасла публика, приветственными аплодисментами заглушившая инфернальный скрип. Никогда не радовалась аплодисментам так, как в Лондоне.
В Кембридже впервые в жизни попробовала эль. В настоящем английском пабе, за настоящей «пабской» едой. Больше не буду. В англичане меня всё равно не запишут, зачем тогда родной тутовке изменять!
Вывеска «Байрон гамбургерз». Воображение услужливо подсовывает картинку: юный Вертер мечется на пороге, терзаясь дилеммой есть или не есть?!
— Кэтрин. Кэтрин! Посмотри на меня!
Девочка сидит, прислонившись лбом к стеклу. За окном кофейни — волнующая жизнь: два молодых грузчика, подтрунивая друг над другом, перетаскивают коробки. Папа ревнует, папа ненавидит всех молодых весёлых грузчиков мира. Папина бы воля — их бы посадили на лондонское колесо обозрения и крутили в небе, не давая спуститься на землю. Дочери всего пять лет, но папа переживает, волнуется, настойчиво зовёт: Кэтрин, посмотри на меня!
Она делает вид, что не слышит.
Наблюдаем за тем, как худенькая высокая девушка занудно поправляет рукава.
— Зачем она не оставит их в покое? — недоумевает Марина.
— Высокие девушки редко задирают рукава, зато постоянно натягивают их чуть ли не на пальцы. Если высокая девушка закатала рукава, значит они ей просто коротки, — объясняю я.
— А нельзя купить такую одежду, чтоб рукава были впору?
Вздыхаю. Попробуй объяснить человеку не-дяде-Стёпе, каково жить с хронически короткими рукавами и брюками! Всю жизнь приходится тут распарывать, а там закатывать, чтоб не выглядеть Шапокляк.
На выставке импрессионистов, после долгого и вдумчивого изучения работы Жоржа Сёра, с подругой Аней высокодуховно обсудили особенности пуантилизма:
— Мурашками рисуют.
— Я бы даже сказала — мурашами!
Интеллект — наше всё.
Простояли перед неумело переданной батальной сценой. Изумление вызывали неубедительные лошади — вызывающе головастые и беспомощно тонконогие.
Аня, после минутного размышления:
— Лошади определённо не его конёк!
По дороге к индийской галерее успели обсудить развод знакомой, на чём свет стоит костерившей бывшего мужа. Пришли к однозначному выводу, что качество человека определяется его отношением к тем, кого он любил. Чем меньше плохого услышишь от него о бывших, тем больше поводов для уважения.
Накрыло совсем неожиданно, в зале ренессанса. На самом входе, повернувшись боком, сидел Моисей Микеланджело. Огромный, плотный, дышащий силой. Дразнящий твою жалкую и неуместную сиюминутность своей безусловной и заслуженной сопричастностью к вечности. Рыдала — от невозможность противостоять такой красоте, приговаривала — мне нечего тебе предъявить и нечем возразить.
Вычитала древнекитайскую мудрость: «Течение даже дохлую рыбу несёт». Смысл в том, что перемены всё равно грядут, бездействуешь ты дохлой рыбой, или же пытаешься что-то делать.
Наблюдала дождь и думала о том, что ничего не хочу, совсем ничего, никаких перемен. Хочу просто быть дохлой рыбой и лежать на берегу Темзы.
Было бы здорово, конечно, чтоб не дохлой, но капризничать не будем.
Залечь на дно в Лондоне. Гулять по городу, пить чай, заглядывать в музеи и книжные лавочки, пить кофе, наблюдать, как зажигается свет в старых чугунных фонарях, зайти в крохотный сырный рай «Paxton & Whitfield», взять молитерно с трюфелем, и обязательно — кусочек нежнейшего «Рейчел», выслушав историю о том, как владелец сыроварни, которого бросила жена, решил в отместку назвать её именем овечий сыр.
Попробовав «Рейчел», понимаешь, что не в отместку он его так назвал. А от тоски.
Идти по Элистан-стрит и повторять про себя джойсовское «Любовь любит любить любовь».
Love loves to love love.
Надпись на бумажных салфетках: «Today is the best day».
Вспомнила тоже джойсовскую «Жизнь — это множество дней. Этот кончится», но возражать не стала. В конце концов, одного другое не отменяет.
Потому — пусть так.
Англичане вдумчивы и отстранённы. Улыбке они предпочитают извинение. Если все произнесённые ими «sorry» перевести в смех, англичане определённо обретут бессмертие.
Из подслушанного:
— Ты зачем улыбаешься?
— Я улыбаюсь, потому что мне больно.
— Брось маяться ерундой, лучше выпей чего-нибудь.
Наделали шороху, заселяясь в гостиницу.
Забронировали с подругой номер с раздельными кроватями, а они заселили нас в номер с двуспальной.
— Мы не пара! — сердито объявляет она сконфуженному менеджеру.
— Зачем им подробности твоей личной жизни? — смеюсь я.
Марина дёргает плечом:
— После истории с отравлением надо перестраховаться!
Новые лаковые туфли, не замеченные ранее ни в чём подозрительном, выкинули фортель: стали немилосердно скрипеть. Скрыть этот скрип было возможно только одним способом — снять туфли, выйти на сцену босой и обуться там. От этого варианта, как и от версии выдвинуться из-за кулис ползком, пришлось отказаться. Беда заключалась в том, что мне нужно было выйти к читателю из узкого неосвещённого прохода в задней части сцены. Представляли с девушками-организаторами, как я, лаково скрипя туфлями, в могильной тишине побираюсь по проходу, и, споткнувшись о какую-то железяку, с грохотом падаю. В зале воцаряется могильная тишина, за кулисами — тоже. Смеялись до икоты.
Спасла публика, приветственными аплодисментами заглушившая инфернальный скрип. Никогда не радовалась аплодисментам так, как в Лондоне.
В Кембридже впервые в жизни попробовала эль. В настоящем английском пабе, за настоящей «пабской» едой. Больше не буду. В англичане меня всё равно не запишут, зачем тогда родной тутовке изменять!
Вывеска «Байрон гамбургерз». Воображение услужливо подсовывает картинку: юный Вертер мечется на пороге, терзаясь дилеммой есть или не есть?!
— Кэтрин. Кэтрин! Посмотри на меня!
Девочка сидит, прислонившись лбом к стеклу. За окном кофейни — волнующая жизнь: два молодых грузчика, подтрунивая друг над другом, перетаскивают коробки. Папа ревнует, папа ненавидит всех молодых весёлых грузчиков мира. Папина бы воля — их бы посадили на лондонское колесо обозрения и крутили в небе, не давая спуститься на землю. Дочери всего пять лет, но папа переживает, волнуется, настойчиво зовёт: Кэтрин, посмотри на меня!
Она делает вид, что не слышит.
Наблюдаем за тем, как худенькая высокая девушка занудно поправляет рукава.
— Зачем она не оставит их в покое? — недоумевает Марина.
— Высокие девушки редко задирают рукава, зато постоянно натягивают их чуть ли не на пальцы. Если высокая девушка закатала рукава, значит они ей просто коротки, — объясняю я.
— А нельзя купить такую одежду, чтоб рукава были впору?
Вздыхаю. Попробуй объяснить человеку не-дяде-Стёпе, каково жить с хронически короткими рукавами и брюками! Всю жизнь приходится тут распарывать, а там закатывать, чтоб не выглядеть Шапокляк.
На выставке импрессионистов, после долгого и вдумчивого изучения работы Жоржа Сёра, с подругой Аней высокодуховно обсудили особенности пуантилизма:
— Мурашками рисуют.
— Я бы даже сказала — мурашами!
Интеллект — наше всё.
Простояли перед неумело переданной батальной сценой. Изумление вызывали неубедительные лошади — вызывающе головастые и беспомощно тонконогие.
Аня, после минутного размышления:
— Лошади определённо не его конёк!
По дороге к индийской галерее успели обсудить развод знакомой, на чём свет стоит костерившей бывшего мужа. Пришли к однозначному выводу, что качество человека определяется его отношением к тем, кого он любил. Чем меньше плохого услышишь от него о бывших, тем больше поводов для уважения.
Накрыло совсем неожиданно, в зале ренессанса. На самом входе, повернувшись боком, сидел Моисей Микеланджело. Огромный, плотный, дышащий силой. Дразнящий твою жалкую и неуместную сиюминутность своей безусловной и заслуженной сопричастностью к вечности. Рыдала — от невозможность противостоять такой красоте, приговаривала — мне нечего тебе предъявить и нечем возразить.
Вычитала древнекитайскую мудрость: «Течение даже дохлую рыбу несёт». Смысл в том, что перемены всё равно грядут, бездействуешь ты дохлой рыбой, или же пытаешься что-то делать.
Наблюдала дождь и думала о том, что ничего не хочу, совсем ничего, никаких перемен. Хочу просто быть дохлой рыбой и лежать на берегу Темзы.
Было бы здорово, конечно, чтоб не дохлой, но капризничать не будем.
Залечь на дно в Лондоне. Гулять по городу, пить чай, заглядывать в музеи и книжные лавочки, пить кофе, наблюдать, как зажигается свет в старых чугунных фонарях, зайти в крохотный сырный рай «Paxton & Whitfield», взять молитерно с трюфелем, и обязательно — кусочек нежнейшего «Рейчел», выслушав историю о том, как владелец сыроварни, которого бросила жена, решил в отместку назвать её именем овечий сыр.
Попробовав «Рейчел», понимаешь, что не в отместку он его так назвал. А от тоски.
Идти по Элистан-стрит и повторять про себя джойсовское «Любовь любит любить любовь».
Love loves to love love.
Надпись на бумажных салфетках: «Today is the best day».
Вспомнила тоже джойсовскую «Жизнь — это множество дней. Этот кончится», но возражать не стала. В конце концов, одного другое не отменяет.
Потому — пусть так.
Published on October 12, 2018 00:22
October 2, 2018
Дорогие англичане, лечу к вам. Приходите обниматься. Буде...
Дорогие англичане, лечу к вам.
Приходите обниматься. Будем рассказывать друг другу смешные истории и фотографироваться на долгую память.
Поездка благотворительная, все собранные за выступления средства будут перечислены нашему фонду "Созидание".
График встреч:
Fri 5 October
19:30 – 21:30 BST
The Tabernacle
34-35 Powis Square
London, W11 2AY
https://www.eventbrite.co.uk/e/44760269170
.
Sat 6 October
15:00 – 16:00 BST
Pushkin House
5A Bloomsbury Square
London, WC1A 2TA
https://www.eventbrite.co.uk/e/-4-8-tickets-45379695892?aff=ebdssbdestsearch
.
Sat 6 October
16:30 – 17:30 BST
Pushkin House
5A Bloomsbury Square
London, WC1A 2TA
https://www.eventbrite.co.uk/e/-9-tickets-46480961808?aff=ebdssbdestsearch
.
Sun 7 October
17:00 - 19:00
Darwin College Library
Granta PI
Cambridge, CB3 9ET
http://www.camruss.com/en/events/narine-abgaryan-meeting-readers/
Приходите обниматься. Будем рассказывать друг другу смешные истории и фотографироваться на долгую память.
Поездка благотворительная, все собранные за выступления средства будут перечислены нашему фонду "Созидание".
График встреч:
Fri 5 October
19:30 – 21:30 BST
The Tabernacle
34-35 Powis Square
London, W11 2AY
https://www.eventbrite.co.uk/e/44760269170
.
Sat 6 October
15:00 – 16:00 BST
Pushkin House
5A Bloomsbury Square
London, WC1A 2TA
https://www.eventbrite.co.uk/e/-4-8-tickets-45379695892?aff=ebdssbdestsearch
.
Sat 6 October
16:30 – 17:30 BST
Pushkin House
5A Bloomsbury Square
London, WC1A 2TA
https://www.eventbrite.co.uk/e/-9-tickets-46480961808?aff=ebdssbdestsearch
.
Sun 7 October
17:00 - 19:00
Darwin College Library
Granta PI
Cambridge, CB3 9ET
http://www.camruss.com/en/events/narine-abgaryan-meeting-readers/
Published on October 02, 2018 09:00
September 29, 2018
Друзья, приходите к нам завтра на «Смородиновую вечеринку...
Друзья, приходите к нам завтра на «Смородиновую вечеринку».
Будет весело, вкусно и празднично.
Зубовский бульвар 2, Музей Москвы.
С 12:00 до 15:00.
Я тоже обязательно туда загляну, так что если кому-то нужно подписать книжку — приходите.
Будем разрисовывать солнышками форзацы и колдовать счастье.
http://mosmuseum.ru/events/p/blagotvoritelnyiy-fudmarket-smorodinovaya-vecherinka/
Будет весело, вкусно и празднично.
Зубовский бульвар 2, Музей Москвы.
С 12:00 до 15:00.
Я тоже обязательно туда загляну, так что если кому-то нужно подписать книжку — приходите.
Будем разрисовывать солнышками форзацы и колдовать счастье.
http://mosmuseum.ru/events/p/blagotvoritelnyiy-fudmarket-smorodinovaya-vecherinka/
Published on September 29, 2018 05:17
September 28, 2018
— Такое ощущение, будто я оказалась в одной из твоих книг...
— Такое ощущение, будто я оказалась в одной из твоих книг, — признаётся Аня, оглядывая залитую теплом узкую и долгую улочку.
На миг я теряю дар речи.
— Не представляешь, какой это для меня комплимент.
Мы стоим во дворе полуразрушенного дома. От когда-то прекрасного строения остался каменный каркас. Внутри растут липы, упираются ветвями в стены и крышу. Это, наверное, всё, что нужно знать о моих книгах.
Хндзореск — город в скалах, где обитали пещерные люди. С лёгкой руки одного из наших туристов теперь мы его называем городом армянских троглодитов. Добраться до него — то ещё испытание. Четыреста с лишним ступеней вниз, далее по шатающемуся длинному мосту, соединяющему края глубокого ущелья. Идти нужно по самому центру, шаг в шаг, стараясь не раскачивать мост. На той стороне — церковь святой Рипсиме. Крохотная, с пологой крышей, заросшей травой. Трава выгорела на солнце и от этого церковь выглядит так, будто её немножко ударило током.
— Здесь всё наивное и простое, словно сделано детскими руками, — выдыхаю я.
Но восторженный настрой сбивает голос одной из туристок.
— Всех бомжей Москвы собрать и сюда привезти! — мечтательно заявляет она, разглядывая пещерный город.
Недоумевающее «за что?» гида тонет в дружном хохоте группы.
— Дочери двадцать один, живёт отдельно, с молодым человеком.
— Ревнуете?
— Вообще не ревную. Отвечаю на каждый её звонок дежурным «убить его?» Она сразу пугается: нет, папочка, ну что ты, я по другому поводу звоню.
Трепетная девушка просит остановить микроавтобус, чтобы полюбоваться телятами.
— Ах какие они у вас хорошенькие! Какие глазастые! А реснички-то, реснички! И худенькие такие! Я бы даже сказала — грациозные. Вымя маленькое, аккуратное, еле разглядишь.
Водитель, не вытерпев:
— Это не вымя!!!
Из подслушанного. Старенькая бабушка вслед деревенской моднице:
— Ты посмотри на неё! Ходит в трусах!
Внучка, закатив глаза:
— Бабо, это мини.
— Инчини?
— Ну, короткая такая юбка. Не всё, что выше колена — трусы.
— Наринэ, вы сегодня поступили неосмотрительно, упомянув при мужчинах об импотенции.
— Почему?
— Это то же самое, что упоминать при женщинах о фригидности. О больном нужно уметь молчать!
Обещаю учиться молчанию о больном.
Обсуждение «оллинклюзива» по-кавказски.
— Спа с мангалом!!!
— Как это место называется?
— Ехегнадзор.
— Какой надзор?
— Вы попробовали картофель? Он был чересчур альденте. Я бы даже сказал — с эффектом грядки.
Обряд крещения, подсмотренный и уморительно в лицах пересказанный одним из туристов.
«Священник спрашивает у него — отрекаешься? Он, недоумевая — зачем? Служка ему — отрекайся! Он — зачем?? Публика, в один голос — отрекайся! Он — зачем??? Мать — отрекайся говорю, или я тебе не мать! Он — тогда ладно!»
— Как вы всё поняли? Не знаете ведь армянского! — протестую я, утирая выступившие от смеха слёзы.
Благодушно отмахивается:
— Разве это имеет значение?
Прощание с группой — большое испытание. Люди уезжают, оставляя о себе воспоминания. И тебе теперь с ними жать. Это на первый взгляд кажется, что расставания — неизбежное заключение встреч. Каждое такое расставание — отколотая частичка души.
Вернувшись домой, плачешь, зарывшись лицом в подушку. В этих слезах всё, что накопилось за эти долгие прекрасные дни — счастье, боль, восхищение, усталость, бесконечная благодарность, любовь.
На следующий день ходишь по городу, не узнавая его. Смотришь глазами тех, кто улетел. Иногда бездумно протягиваешь руку, надеясь, что кто-то возьмёт её в свою.
Улететь из Армении — словно немного умереть. Покидаешь её с ощущением, будто тебе вырвали сердце и залили туда чернил. В провожатых — смугло-пепельное вечернее небо с эскизом библейской горы. Апельсиновый край уходящего солнца. Смазанная лента городских фонарей. Старый запорожец, заботливо припаркованный возле аршинной надписи «не парковаться». И забытая кем-то на скамейке школьная тетрадка.




На миг я теряю дар речи.
— Не представляешь, какой это для меня комплимент.
Мы стоим во дворе полуразрушенного дома. От когда-то прекрасного строения остался каменный каркас. Внутри растут липы, упираются ветвями в стены и крышу. Это, наверное, всё, что нужно знать о моих книгах.
Хндзореск — город в скалах, где обитали пещерные люди. С лёгкой руки одного из наших туристов теперь мы его называем городом армянских троглодитов. Добраться до него — то ещё испытание. Четыреста с лишним ступеней вниз, далее по шатающемуся длинному мосту, соединяющему края глубокого ущелья. Идти нужно по самому центру, шаг в шаг, стараясь не раскачивать мост. На той стороне — церковь святой Рипсиме. Крохотная, с пологой крышей, заросшей травой. Трава выгорела на солнце и от этого церковь выглядит так, будто её немножко ударило током.
— Здесь всё наивное и простое, словно сделано детскими руками, — выдыхаю я.
Но восторженный настрой сбивает голос одной из туристок.
— Всех бомжей Москвы собрать и сюда привезти! — мечтательно заявляет она, разглядывая пещерный город.
Недоумевающее «за что?» гида тонет в дружном хохоте группы.
— Дочери двадцать один, живёт отдельно, с молодым человеком.
— Ревнуете?
— Вообще не ревную. Отвечаю на каждый её звонок дежурным «убить его?» Она сразу пугается: нет, папочка, ну что ты, я по другому поводу звоню.
Трепетная девушка просит остановить микроавтобус, чтобы полюбоваться телятами.
— Ах какие они у вас хорошенькие! Какие глазастые! А реснички-то, реснички! И худенькие такие! Я бы даже сказала — грациозные. Вымя маленькое, аккуратное, еле разглядишь.
Водитель, не вытерпев:
— Это не вымя!!!
Из подслушанного. Старенькая бабушка вслед деревенской моднице:
— Ты посмотри на неё! Ходит в трусах!
Внучка, закатив глаза:
— Бабо, это мини.
— Инчини?
— Ну, короткая такая юбка. Не всё, что выше колена — трусы.
— Наринэ, вы сегодня поступили неосмотрительно, упомянув при мужчинах об импотенции.
— Почему?
— Это то же самое, что упоминать при женщинах о фригидности. О больном нужно уметь молчать!
Обещаю учиться молчанию о больном.
Обсуждение «оллинклюзива» по-кавказски.
— Спа с мангалом!!!
— Как это место называется?
— Ехегнадзор.
— Какой надзор?
— Вы попробовали картофель? Он был чересчур альденте. Я бы даже сказал — с эффектом грядки.
Обряд крещения, подсмотренный и уморительно в лицах пересказанный одним из туристов.
«Священник спрашивает у него — отрекаешься? Он, недоумевая — зачем? Служка ему — отрекайся! Он — зачем?? Публика, в один голос — отрекайся! Он — зачем??? Мать — отрекайся говорю, или я тебе не мать! Он — тогда ладно!»
— Как вы всё поняли? Не знаете ведь армянского! — протестую я, утирая выступившие от смеха слёзы.
Благодушно отмахивается:
— Разве это имеет значение?
Прощание с группой — большое испытание. Люди уезжают, оставляя о себе воспоминания. И тебе теперь с ними жать. Это на первый взгляд кажется, что расставания — неизбежное заключение встреч. Каждое такое расставание — отколотая частичка души.
Вернувшись домой, плачешь, зарывшись лицом в подушку. В этих слезах всё, что накопилось за эти долгие прекрасные дни — счастье, боль, восхищение, усталость, бесконечная благодарность, любовь.
На следующий день ходишь по городу, не узнавая его. Смотришь глазами тех, кто улетел. Иногда бездумно протягиваешь руку, надеясь, что кто-то возьмёт её в свою.
Улететь из Армении — словно немного умереть. Покидаешь её с ощущением, будто тебе вырвали сердце и залили туда чернил. В провожатых — смугло-пепельное вечернее небо с эскизом библейской горы. Апельсиновый край уходящего солнца. Смазанная лента городских фонарей. Старый запорожец, заботливо припаркованный возле аршинной надписи «не парковаться». И забытая кем-то на скамейке школьная тетрадка.




Published on September 28, 2018 01:10
Narine Abgaryan's Blog
- Narine Abgaryan's profile
- 978 followers
Narine Abgaryan isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



