Сергей Владимирович Волков's Blog, page 51
January 20, 2016
О хронологической обусловленности некоторых реформ
Бывает, что те или иные серьезные реформы запаздывают или, напротив, проводятся раньше, чем позволяют обстоятельства. Но в какой-то мере от имеющихся обстоятельств они всегда зависят. Пришлось недавно вести диалог о связи между «освободительными» актами 1762 и 1861 гг. Собеседник транслировал распространенное мнение, что желательно это было сделать одновременно: освободив дворян, надо было тут же или вскоре освободить и крестьян и, во всяком случае, интервал между этими событиями был слишком велик. Я же указывал на то, что условия для их проведения лежали в совершенно разных плоскостях, и что, хотя они, действительно, могли бы быть хронологически ближе друг к другу, чем были, но лишь в известных пределах.
Отменить крепостное право было возможно не раньше, чем был создан достаточно многочисленный государственный аппарат, способный полностью заменить административные, судебные и фискальные функции помещика в отношении его крестьян. А таковой в России появился только к 30-м годам ХIХ в. (в этом вопросе Россия на несколько десятилетий отставала). Но и «вольность» дворянства не могла быть провозглашена намного позже, чем была. Следует также иметь в виду, что если крепостное право было достаточно обычным явлением и существовало в Центральной и Восточной Европе до начала ХIХ в., то обязательной службы дворян в сопоставимую историческую эпоху и тем более в такой форме, какую она приняла при Петре и сохраняла в первой половине XVIII в.) ни в одном европейском государстве никогда не было, это очень специфическая российская реалия.
Екатерина, как известно, крайне негативно относилась к «манифесту о вольности» и, хотя в силу энтузиазма, с каким он был воспринят дворянством (и с учетом обстоятельств своего восшествия на престол), отменить его не могла рискнуть, сделала все, чтобы путем ряда указов затормозить и ослабить его действие. Но слишком долго тянуть с этой мерой и она бы не смогла, и к середине ее царствования аналогичный акт, несомненно, был бы принят (думаю, едва ли позже начала 80-х годов).
Надо иметь в виду, что положение рядовой массы дворянства относительно службы было хуже рекрутского: если вероятность для каждого отдельного человека попасть в рекруты была крайне невелика, то дворяне должны были служить до смерти или полной утраты дееспособности поголовно, причем абсолютное большинство их всю жизнь, как и рекруты, служило рядовыми и унтер-офицерами, так никогда и не выслуживая офицерского или классного чина.
Именно последнее обстоятельство находилось в вопиющем противоречии с генеральной тенденцией трансформации европейской элиты в эпоху «нового времени»: постепенным превращением дворян из членов землевладельческого сословия в членов новых элитных групп: офицерства, рангового чиновничества и лиц свободных профессий. Ситуация, когда большинство дворян проводило всю жизнь на положении нижних воинских чинов наравне с рекрутами из крестьян, вступало в очевидное противоречие и с тенденцией превращения этого сословия в главное привилегированное, которая в России хоть с опозданием, но к середине XVIII в. вполне обозначилась (положения 1746 и 1754 гг. окончательно отделили дворян от представителей других сословий: они получили исключительное право на владение населенными имениями, которым ранее пользовались также однодворцы, мещане, купцы и фабриканты).
Причем ситуация эта постоянно обострялась. В период петровского царствования и к 1725 г. на 25-30 тыс. мужчин-дворян дееспособного возраста имелось лишь 8 тыс. офицерских и равных им гражданских должностей (от четверти до трети которых было к тому же занято лицами недворянского происхождения), т.е. численность служилого дворянства в 3 раза превышала число мест в элитных группах (при том, что других элитных групп вне службы тогда не было, да и права уклониться от нее они не имели). К 1755 г. она превышала их уже в 5 раз: на примерно 50-55 тыс. взрослых мужчин-дворян - не более 10 тыс. офицерских и классных должностей, к 1795 г. – в 6 раз: на как минимум 180 тыс. дворян менее 30 тыс. таких должностей (а к концу 10-х годов ХIХ в. - даже в 7 раз).
То есть при сохранении обязательности службы со временем все большее число дворян (и все большая их доля, и без того преобладающая) вынуждено было бы служить в качестве солдат и матросов, что явно диссонировало бы с тенденцией все большей привилегированности этого сословия. Кроме того, с 70-х годов рост численности дворянства происходил главным образом за счет дворян присоединяемых территорий, которые подобных порядков никогда не знали, и в отношении которых ввести таковые не представлялось возможным (даже при Петре обязательность службы не распространялась на остзейское рыцарство и смоленскую шляхту), поскольку это сделало бы геополитические успехи империи крайне затруднительными («цена вопроса» неизмеримо выросла бы). Так что отдалять дворянскую «вольность» (т.е. привести этот вопрос в соответствии с тем, как обстояло дело в остальной Европе) едва ли можно было бы больше, чем на пару десятилетий.
Отменить крепостное право было возможно не раньше, чем был создан достаточно многочисленный государственный аппарат, способный полностью заменить административные, судебные и фискальные функции помещика в отношении его крестьян. А таковой в России появился только к 30-м годам ХIХ в. (в этом вопросе Россия на несколько десятилетий отставала). Но и «вольность» дворянства не могла быть провозглашена намного позже, чем была. Следует также иметь в виду, что если крепостное право было достаточно обычным явлением и существовало в Центральной и Восточной Европе до начала ХIХ в., то обязательной службы дворян в сопоставимую историческую эпоху и тем более в такой форме, какую она приняла при Петре и сохраняла в первой половине XVIII в.) ни в одном европейском государстве никогда не было, это очень специфическая российская реалия.
Екатерина, как известно, крайне негативно относилась к «манифесту о вольности» и, хотя в силу энтузиазма, с каким он был воспринят дворянством (и с учетом обстоятельств своего восшествия на престол), отменить его не могла рискнуть, сделала все, чтобы путем ряда указов затормозить и ослабить его действие. Но слишком долго тянуть с этой мерой и она бы не смогла, и к середине ее царствования аналогичный акт, несомненно, был бы принят (думаю, едва ли позже начала 80-х годов).
Надо иметь в виду, что положение рядовой массы дворянства относительно службы было хуже рекрутского: если вероятность для каждого отдельного человека попасть в рекруты была крайне невелика, то дворяне должны были служить до смерти или полной утраты дееспособности поголовно, причем абсолютное большинство их всю жизнь, как и рекруты, служило рядовыми и унтер-офицерами, так никогда и не выслуживая офицерского или классного чина.
Именно последнее обстоятельство находилось в вопиющем противоречии с генеральной тенденцией трансформации европейской элиты в эпоху «нового времени»: постепенным превращением дворян из членов землевладельческого сословия в членов новых элитных групп: офицерства, рангового чиновничества и лиц свободных профессий. Ситуация, когда большинство дворян проводило всю жизнь на положении нижних воинских чинов наравне с рекрутами из крестьян, вступало в очевидное противоречие и с тенденцией превращения этого сословия в главное привилегированное, которая в России хоть с опозданием, но к середине XVIII в. вполне обозначилась (положения 1746 и 1754 гг. окончательно отделили дворян от представителей других сословий: они получили исключительное право на владение населенными имениями, которым ранее пользовались также однодворцы, мещане, купцы и фабриканты).
Причем ситуация эта постоянно обострялась. В период петровского царствования и к 1725 г. на 25-30 тыс. мужчин-дворян дееспособного возраста имелось лишь 8 тыс. офицерских и равных им гражданских должностей (от четверти до трети которых было к тому же занято лицами недворянского происхождения), т.е. численность служилого дворянства в 3 раза превышала число мест в элитных группах (при том, что других элитных групп вне службы тогда не было, да и права уклониться от нее они не имели). К 1755 г. она превышала их уже в 5 раз: на примерно 50-55 тыс. взрослых мужчин-дворян - не более 10 тыс. офицерских и классных должностей, к 1795 г. – в 6 раз: на как минимум 180 тыс. дворян менее 30 тыс. таких должностей (а к концу 10-х годов ХIХ в. - даже в 7 раз).
То есть при сохранении обязательности службы со временем все большее число дворян (и все большая их доля, и без того преобладающая) вынуждено было бы служить в качестве солдат и матросов, что явно диссонировало бы с тенденцией все большей привилегированности этого сословия. Кроме того, с 70-х годов рост численности дворянства происходил главным образом за счет дворян присоединяемых территорий, которые подобных порядков никогда не знали, и в отношении которых ввести таковые не представлялось возможным (даже при Петре обязательность службы не распространялась на остзейское рыцарство и смоленскую шляхту), поскольку это сделало бы геополитические успехи империи крайне затруднительными («цена вопроса» неизмеримо выросла бы). Так что отдалять дворянскую «вольность» (т.е. привести этот вопрос в соответствии с тем, как обстояло дело в остальной Европе) едва ли можно было бы больше, чем на пару десятилетий.
Published on January 20, 2016 22:37
January 13, 2016
Когда претензии неуместны
Неоправданно много разговоров о новогодних германских инцидентах. Они настолько укладываются в логику явлений, что не должны бы заслуживать специального внимания. Как не заслуживают и специального осуждения их виновники. Дети природы лишь ведут себя в соответствии со своей натурой. И если, несмотря на то, что натура эта хорошо известна (в т.ч. и рядовому обывателю – по пребыванию туристом в местах происхождения), их специально туда пригласили, и половина населения это активно одобряет, то какие могут быть претензии? Если они на халяву получают и жилье, и пищу, и какие-то пособия, то почему на тех же основаниях получить женщину (что для них не меньшая потребность) должно казаться им чем-то неправильным? И со стороны власти, прощающей им невыплату каких-то кредитов («они не понимали, что подписывали») совершенно правильно и логично и простить им эти поступки, и по возможности скрывать информацию о них.
Уж если общество устроено и мыслит определенным образом, то так оно устроено. Нет никаких оснований мешать людям жить «как проголосовали» (Меркель же ихняя не с десантом спецназа власть захватила). Несознательность и недомыслие проявили несколько сот «белых проституток», которые, ощутив неудобство от пребывания черной руки у себя в трусах, вздумали обратиться в полицию (полагаю, еще стольким же хватило ума от этого воздержаться). Вот у этих что с логикой, что с разумом – дело дрянь. Ну возможно ли до такой степени не осознавать идеологии родного общества? Полиция, натурально, самым суровым образом расправилась как раз с теми, кто против «приставаний» протестовал (меня вот это нисколько не удивило, но неужели удивило многих там?).
Германия – страна демократическая, да еще и «опущенная» по полной, где меньшинству (с недостаточно промытыми мозгами) приходится смиряться, и как же ей не стать настоящим раем для «детей природы». Так что всё, что там происходит и будет происходить – совершенно правильно. Бывает, конечно, что и в таких странах власть делает что-то такое, что большинство не одобряет, но не в данном случае. Потому что здесь большинство самого населения присутствие в своей стране «они же детей» приветствует, и что-то мне подсказывает, что среди одобряющих процент женщин сильно выше среднего (они сердобольнее, да и если посмотреть на долю браков…).
Конечно, те, кто одобряет и кто не очень – живут в одних домах и ходят по одним улицам, и могло бы показаться, что правильнее было бы хотя бы несколько «приблизить» ответственность за волеизъявление. Ну вот был же там порядок, при котором с человека, официально заявившего себя приверженцем такой-то конфессии, взимался и некоторый взнос в ее пользу (а понятие «деньги налогоплательщиков» там, в отличие от соцстран, должно же иметь какое-то значение); почему бы на тех, кто ратовал за прием дорогих гостей, не возложить какой-то дополнительный налог на их содержание (а женской части таковых – не носить на одежде какой-то опознавательных знак своих «детсколюбивых» убеждений).
Но сие было бы, пожалуй, покушением на идею, которая, как и всякая «большая» идея, требует приобщения к ней всего общества и бесконечно выше неудобств, причиняемых некоторой части населения, а тем более той, которая этой идее менее лояльна. Идея коммунистического строительства потребовала вон скольких трупов, а по сравнению с дыркой в затылке нежелательная рука между женских ног – ну чего такого-то… Идея-то тут не менее гуманна: ну отчего бы, в самом деле, не компенсировать угнетенной части человечества (ну пусть не по социальному, а национальному признаку – еще, пожалуй, «справедливее») его тяжелую участь небольшими удовольствиями за счет зажравшихся от благополучия «белых сахибов»?
Не вчера выдумано, а уж поболее полувека. Приоритеты давно расставлены, и самые воинственные феминистские организации пределы своей компетенции хорошо знают. Несколько лет назад был вот случай, когда они подняли было волну насчет принуждения к сожительству сержантами новобранок в американской армии, а как выяснилось, что все новобранки-то были белыми, а сержанты неграми – так и заткнулись моментально. Заткнутся и на сей раз. Это какого-нибудь шведа могут за добровольное сношение без презерватива посадить, а «гостю» и за недобровольное ничего не будет. Пора бы принципы «классового подхода» усвоить и не роптать.
Равенства-то на самом деле не бывает и быть не может. Ну не знает его ни природа, ни здоровое человеческое сознание. Борьба за равенство неизбежно приводит лишь к тому, что иерархия со временем переворачивается – только и всего («кто был никем – тот станет всем»), тем, кому было дозволено меньше – дозволено будет больше (и наоборот). У «детей природы» сознание пусть и примитивное, но совершенно здоровое, отвлеченными соображениями не отягощенное. «Если не ты мой господин – то я – твой» - это они хорошо понимают. Если ты не можешь заставить меня жить по своим законам и понятиям – я заставлю тебя жить по своим.
Относительно порядка иерархии (какие именно категории должны быть предпочтительны), конечно, могут быть разные мнения, но это - как получится. А уж если кто добровольно ставит себя в положение «непредпочтительное» - возражать ну совершенно невозможно. Да и зачем? Всегда ли надо препятствовать самоубийце? Если он чем-то особенно дорог, пожалуй, стоит проявить эгоизм и попытаться. Но вообще-то чужой выбор надо уважать? Или как? Это я к тому, что нам за чужой выбор особо переживать не следует. В своем бы не ошибиться.
Уж если общество устроено и мыслит определенным образом, то так оно устроено. Нет никаких оснований мешать людям жить «как проголосовали» (Меркель же ихняя не с десантом спецназа власть захватила). Несознательность и недомыслие проявили несколько сот «белых проституток», которые, ощутив неудобство от пребывания черной руки у себя в трусах, вздумали обратиться в полицию (полагаю, еще стольким же хватило ума от этого воздержаться). Вот у этих что с логикой, что с разумом – дело дрянь. Ну возможно ли до такой степени не осознавать идеологии родного общества? Полиция, натурально, самым суровым образом расправилась как раз с теми, кто против «приставаний» протестовал (меня вот это нисколько не удивило, но неужели удивило многих там?).
Германия – страна демократическая, да еще и «опущенная» по полной, где меньшинству (с недостаточно промытыми мозгами) приходится смиряться, и как же ей не стать настоящим раем для «детей природы». Так что всё, что там происходит и будет происходить – совершенно правильно. Бывает, конечно, что и в таких странах власть делает что-то такое, что большинство не одобряет, но не в данном случае. Потому что здесь большинство самого населения присутствие в своей стране «они же детей» приветствует, и что-то мне подсказывает, что среди одобряющих процент женщин сильно выше среднего (они сердобольнее, да и если посмотреть на долю браков…).
Конечно, те, кто одобряет и кто не очень – живут в одних домах и ходят по одним улицам, и могло бы показаться, что правильнее было бы хотя бы несколько «приблизить» ответственность за волеизъявление. Ну вот был же там порядок, при котором с человека, официально заявившего себя приверженцем такой-то конфессии, взимался и некоторый взнос в ее пользу (а понятие «деньги налогоплательщиков» там, в отличие от соцстран, должно же иметь какое-то значение); почему бы на тех, кто ратовал за прием дорогих гостей, не возложить какой-то дополнительный налог на их содержание (а женской части таковых – не носить на одежде какой-то опознавательных знак своих «детсколюбивых» убеждений).
Но сие было бы, пожалуй, покушением на идею, которая, как и всякая «большая» идея, требует приобщения к ней всего общества и бесконечно выше неудобств, причиняемых некоторой части населения, а тем более той, которая этой идее менее лояльна. Идея коммунистического строительства потребовала вон скольких трупов, а по сравнению с дыркой в затылке нежелательная рука между женских ног – ну чего такого-то… Идея-то тут не менее гуманна: ну отчего бы, в самом деле, не компенсировать угнетенной части человечества (ну пусть не по социальному, а национальному признаку – еще, пожалуй, «справедливее») его тяжелую участь небольшими удовольствиями за счет зажравшихся от благополучия «белых сахибов»?
Не вчера выдумано, а уж поболее полувека. Приоритеты давно расставлены, и самые воинственные феминистские организации пределы своей компетенции хорошо знают. Несколько лет назад был вот случай, когда они подняли было волну насчет принуждения к сожительству сержантами новобранок в американской армии, а как выяснилось, что все новобранки-то были белыми, а сержанты неграми – так и заткнулись моментально. Заткнутся и на сей раз. Это какого-нибудь шведа могут за добровольное сношение без презерватива посадить, а «гостю» и за недобровольное ничего не будет. Пора бы принципы «классового подхода» усвоить и не роптать.
Равенства-то на самом деле не бывает и быть не может. Ну не знает его ни природа, ни здоровое человеческое сознание. Борьба за равенство неизбежно приводит лишь к тому, что иерархия со временем переворачивается – только и всего («кто был никем – тот станет всем»), тем, кому было дозволено меньше – дозволено будет больше (и наоборот). У «детей природы» сознание пусть и примитивное, но совершенно здоровое, отвлеченными соображениями не отягощенное. «Если не ты мой господин – то я – твой» - это они хорошо понимают. Если ты не можешь заставить меня жить по своим законам и понятиям – я заставлю тебя жить по своим.
Относительно порядка иерархии (какие именно категории должны быть предпочтительны), конечно, могут быть разные мнения, но это - как получится. А уж если кто добровольно ставит себя в положение «непредпочтительное» - возражать ну совершенно невозможно. Да и зачем? Всегда ли надо препятствовать самоубийце? Если он чем-то особенно дорог, пожалуй, стоит проявить эгоизм и попытаться. Но вообще-то чужой выбор надо уважать? Или как? Это я к тому, что нам за чужой выбор особо переживать не следует. В своем бы не ошибиться.
Published on January 13, 2016 04:28
December 22, 2015
Бывший европеец и современное искусство
Недавний выпад philtrius’а против современного искусства и последовавшая дискуссия дали повод для некоторых рассуждений на тему. Предлагалось выбирать: давить ли его беспощадно, бороться ли только джентльменскими средствами, предоставить ли всё естественной конкуренции. Такая постановка вопроса и тем более высказывания в ходе дискуссии предполагали, однако, что речь идет все-таки об искусстве, хотя и "мерзком". Представляя себе всё это в несколько ином плане, я затруднился принять участие в дискуссии.
Я вполне толерантно отношусь к любым проявлениям человеческой натуры, не несущим непосредственной угрозы. Поэтому вид человека, прибивающего себя к брусчатке или изображающего из себя собаку, меня не травмирует, а, напротив, забавляет (в отличие, напр., от вида коммуняги, призывающего на митинге к восстановлению Соввласти в полном объеме). Да и за пределами «угрожающего» вид, скажем, малолетних детей, используемых профессиональными нищими, вызывает у меня неприятные чувства, а голые задницы каких-нибудь «пусек» (тем более, если красивые) - не вызывает совершенно.
Искусствовед я никакой и вполне допускаю, что в теоретическом плане искусством могут быть названы вообще любые человеческие проявления, или, во всяком случае, люди могут проводить тут грань по своему усмотрению (не раз слышал: вот почему балет – искусство, а футбол – нет). Но, привыкнув воспринимать вещи вполне конкретно, сам я в проведении границ между явлениями никогда не затрудняюсь. Допустим, легковесный треп о «парадигмах» вполне себе жанр, но когда начинают утверждать, что это - «наука» (и более того, что именно это и есть «наука»), вот тут уже «рука тянется к пистолету». Так и «искусство» для меня кончается там, где кончается породившее его общество и начинается «массовое».
Но мы все еще живем в эпоху «массового общества», и все его уродства приходится принимать как данность. Чувства мои страдают лишь тогда, когда эти уродства агрессивно стремятся стереть память о чем-то «настоящем». Вот почему Центр Помпиду в Париже в свое время вызвал у меня только улыбку, а вот стеклянная пирамида в Лувре, а особенно дворец XVII в. неподалеку, «дополненный» какими-то полосатыми столбиками - прилив жгучей ненависти.
Тема «борьбы» с современным искусством выглядит для меня, мягко говоря, проблематично, и не знаю даже, отдает ли philtrius себе отчет в том, «на что он руку поднимал».
Едва ли объектом неприязни заслуживают быть непосредственно творцы «мерзости». То, что почитается искусством и образует в нем «мейнстрим», равно как и сравнительная ценность различных произведений в каждую эпоху зависят не от творцов, а от «заказчиков». Цены на аукционах формируются не продавцами, а покупателями. Если среди элиты считается нужным платить наибольшие деньги за какую-то «мерзость», то последняя в общественном сознании и становится высшим достижением искусства. Ну и, разумеется, стиль каждой эпохи тесно связан с ее устройством. Пикассо так же немыслим при Людовике XIV, как Веласкес – при олландах-меркелях. Т.е. представление о том, что есть искусство, формируется не столько художественной элитой, сколько элитой политико-идеологической, почему его мейнстримная часть и выражает наилучшим образом дух эпохи.
«Современное искусство» есть искусство эпохи «массового общества» в его «демократическом» варианте. И каким еще могло бы быть искусство этой эпохи – трудно представить. Это неизбежно либо «пролеткульт», либо «большой стиль» гитлеровско-сталинского толка, либо вот «дегенеративное искусство». «Современное искусство» - не недоразумение и не «перегибы на местах», а наиболее адекватное отражение в той сфере, которая предназначена искусству, определенной социально-политической системы. Поэтому оно может уйти только с уходом породившего его устройства и соответствующей элиты (как ушел «большой стиль»). Борьба с ним означает в сущности борьбу с этим устройством.
«Современное искусство» невозможно отделить от современной европейской идеологии и политики, от таких явлений, как беснование вокруг геев, «политкорректность» или «мультикультурализм» и т.д. Невозможно отвергать его, не отвергая то, что ныне называется «европейством». В этом смысле существующие еще в Европе любители «домассовой» культуры (будь то хоть готика, хоть модерн) это - «бывшие европейцы» (как существовали в Совдепии «бывшие офицеры» и вообще «бывшие»).
Особенно странно должна выглядеть борьба с «современным искусством» в РФ, где она распространена меньше, но зато ей придается бОльшее общественное значение. В дискуссии всплывала демоническая фигура Гельмана (не знаю его, но судя по упоминаниям, он почитается живым воплощением отечественной «мерзости»). Однако же те, кто хочет «как в Европе», не могут отвергать Гельмана, ибо нынешней «Европе» адекватен именно он. Поклонники современной Европы, отвергающие Гельмана (встречал таких) – это примерно то же, что поклонники Совка, обожающие цитировать И.Ильина. Конкретно Гельман (если действительно именно он воплощает «самое-самое»), кстати (помимо того, что кому-то нужен и Гельман), выполняет и некоторую важную функцию, наглядно демонстрируя РАЗНИЦУ и не давая стереть грань (как это делают более «умеренные» формы современного искусства.
Ну и, наконец, неминуемо возникает вопрос «ЧТО ВМЕСТО?». Учитывая, в какую эпоху мы живем, не приходится же говорить о замене «мерзости» каким-то из вариантов «настоящей» культуры (я вот лично люблю классицизм и рококо, что, видимо, отражает разные стороны моей натуры). Так что? Вот там у philtrius’а один из посетителей аттестовал себя замечательно метко: «соборянин-коммунист-черносотенец». Представил себе связанное с этим образом искусство…
Я вполне толерантно отношусь к любым проявлениям человеческой натуры, не несущим непосредственной угрозы. Поэтому вид человека, прибивающего себя к брусчатке или изображающего из себя собаку, меня не травмирует, а, напротив, забавляет (в отличие, напр., от вида коммуняги, призывающего на митинге к восстановлению Соввласти в полном объеме). Да и за пределами «угрожающего» вид, скажем, малолетних детей, используемых профессиональными нищими, вызывает у меня неприятные чувства, а голые задницы каких-нибудь «пусек» (тем более, если красивые) - не вызывает совершенно.
Искусствовед я никакой и вполне допускаю, что в теоретическом плане искусством могут быть названы вообще любые человеческие проявления, или, во всяком случае, люди могут проводить тут грань по своему усмотрению (не раз слышал: вот почему балет – искусство, а футбол – нет). Но, привыкнув воспринимать вещи вполне конкретно, сам я в проведении границ между явлениями никогда не затрудняюсь. Допустим, легковесный треп о «парадигмах» вполне себе жанр, но когда начинают утверждать, что это - «наука» (и более того, что именно это и есть «наука»), вот тут уже «рука тянется к пистолету». Так и «искусство» для меня кончается там, где кончается породившее его общество и начинается «массовое».
Но мы все еще живем в эпоху «массового общества», и все его уродства приходится принимать как данность. Чувства мои страдают лишь тогда, когда эти уродства агрессивно стремятся стереть память о чем-то «настоящем». Вот почему Центр Помпиду в Париже в свое время вызвал у меня только улыбку, а вот стеклянная пирамида в Лувре, а особенно дворец XVII в. неподалеку, «дополненный» какими-то полосатыми столбиками - прилив жгучей ненависти.
Тема «борьбы» с современным искусством выглядит для меня, мягко говоря, проблематично, и не знаю даже, отдает ли philtrius себе отчет в том, «на что он руку поднимал».
Едва ли объектом неприязни заслуживают быть непосредственно творцы «мерзости». То, что почитается искусством и образует в нем «мейнстрим», равно как и сравнительная ценность различных произведений в каждую эпоху зависят не от творцов, а от «заказчиков». Цены на аукционах формируются не продавцами, а покупателями. Если среди элиты считается нужным платить наибольшие деньги за какую-то «мерзость», то последняя в общественном сознании и становится высшим достижением искусства. Ну и, разумеется, стиль каждой эпохи тесно связан с ее устройством. Пикассо так же немыслим при Людовике XIV, как Веласкес – при олландах-меркелях. Т.е. представление о том, что есть искусство, формируется не столько художественной элитой, сколько элитой политико-идеологической, почему его мейнстримная часть и выражает наилучшим образом дух эпохи.
«Современное искусство» есть искусство эпохи «массового общества» в его «демократическом» варианте. И каким еще могло бы быть искусство этой эпохи – трудно представить. Это неизбежно либо «пролеткульт», либо «большой стиль» гитлеровско-сталинского толка, либо вот «дегенеративное искусство». «Современное искусство» - не недоразумение и не «перегибы на местах», а наиболее адекватное отражение в той сфере, которая предназначена искусству, определенной социально-политической системы. Поэтому оно может уйти только с уходом породившего его устройства и соответствующей элиты (как ушел «большой стиль»). Борьба с ним означает в сущности борьбу с этим устройством.
«Современное искусство» невозможно отделить от современной европейской идеологии и политики, от таких явлений, как беснование вокруг геев, «политкорректность» или «мультикультурализм» и т.д. Невозможно отвергать его, не отвергая то, что ныне называется «европейством». В этом смысле существующие еще в Европе любители «домассовой» культуры (будь то хоть готика, хоть модерн) это - «бывшие европейцы» (как существовали в Совдепии «бывшие офицеры» и вообще «бывшие»).
Особенно странно должна выглядеть борьба с «современным искусством» в РФ, где она распространена меньше, но зато ей придается бОльшее общественное значение. В дискуссии всплывала демоническая фигура Гельмана (не знаю его, но судя по упоминаниям, он почитается живым воплощением отечественной «мерзости»). Однако же те, кто хочет «как в Европе», не могут отвергать Гельмана, ибо нынешней «Европе» адекватен именно он. Поклонники современной Европы, отвергающие Гельмана (встречал таких) – это примерно то же, что поклонники Совка, обожающие цитировать И.Ильина. Конкретно Гельман (если действительно именно он воплощает «самое-самое»), кстати (помимо того, что кому-то нужен и Гельман), выполняет и некоторую важную функцию, наглядно демонстрируя РАЗНИЦУ и не давая стереть грань (как это делают более «умеренные» формы современного искусства.
Ну и, наконец, неминуемо возникает вопрос «ЧТО ВМЕСТО?». Учитывая, в какую эпоху мы живем, не приходится же говорить о замене «мерзости» каким-то из вариантов «настоящей» культуры (я вот лично люблю классицизм и рококо, что, видимо, отражает разные стороны моей натуры). Так что? Вот там у philtrius’а один из посетителей аттестовал себя замечательно метко: «соборянин-коммунист-черносотенец». Представил себе связанное с этим образом искусство…
Published on December 22, 2015 00:41
December 14, 2015
В утешение нетерпеливым
Позапрошлым постом (как мне казалось, вполне оптимистичным) я, как выяснилось, людей только расстроил: им показалось слишком долго ждать. Поскольку такая реакция стала мне известной от человека, мне вполне симпатичного, но вращающегося в основном в среде тех, кого ныне принято называть «либералами», я, пожалуй, попробую найти некоторые слова утешения, но сначала все-таки придется сказать, что, если бы вдруг ждать не пришлось, и что-то случилось раньше, то ничего хорошего для этих людей не проистекло бы.
Мысль о том, что ухудшение экономического положения и рост недовольства населения каким-то образом может способствовать реализации их интересов, представляется мне совершенно курьезной: от этого выигрывает только более левая (и более им враждебная) часть режима в лице «системных партий», прежде всего КПРФ. Если бы вдруг «политика» началась сейчас, ни малейших электоральных перспектив «либералы» бы не имели. Да, ситуация ухудшается, но следствием может быть только то, что КПРФ-СР-ЛДПР несколько потеснят ЕР (может быть, уже на выборах 2016 г.), но режим никоим образом не дрогнет, он станет только более «красным». Путину-ЕР вообще не обязательно иметь даже простое большинство: отсутствие его создает лишь некоторые технические трудности и психологические неприятности, но сути не меняет, ибо все остальные «партии» представляют тот же самый режим. (Гораздо более слабая ельцынская власть вполне благополучно существовала, имея рейтинг менее 6%, гораздо худшие материальные условия жизни населения и многотысячные против себя демонстрации). В самом крайнем случае может быть создана новая «Родина», а также и подконтрольная «правая» партия (я бы на их месте так и поступил).
Нынешний «постсоветский» режим совершенно адекватен настроениям и психологии большинства населения. Вот когда такой адекватности нет, и власть менталитетом населения категорически недовольна, она его целенаправленно ломает вплоть до самых жестких мер – как делали это большевики или, допустим, Ататюрк в Турции. Но после 1991 г. ничего такого не делалось, советская идеологическая система не отвергалась, новая власть даже не заявляла себя ее противником, имели место лишь отдельные мягкие выпады против нее, призванные хоть как-то оправдать перераспределение богатства, но в то же время не раздражать излишне население еще и покушением на его «ценности». Путин, при котором и вовсе всё стало на свои места, - просто наиболее удачное и полное его воплощение. Столь же удачное, как и многочисленные детали, оформляющие его правление. Внук Молотова (деду вполне единомышленный), поставленный во главе «Русского мира» (организации, призванной агитировать «соотечественников» во всем мире) или опознавательный знак самолетов –здоровенная красная звезда в обрамлении тончайшей и почти незаметной бело-синей каймы – чертовски символичны.
Поскольку же настроения населения в высокой степени «абстрактно патриотичны» (роспуском СССР эти чувства были сильно унижены, но «опущено» население, как в побежденных Германии и Японии, не было), то при любой свободной игре политических сил (что сейчас, что и после Путина) выбор будет между различными направлениями патриотизма – от откровенно красного до чистых националистов. Поэтому, кстати, власть, основывающая свою популярность именно и прежде всего на патриотизме и державности старается заблаговременно прижимать не «либералов-западников» (наличие которых ей в этом смысле чрезвычайно выгодно, ибо патриотической она может выглядеть только на их фоне), а «альтернативных патриотов», сколь бы ничтожными и смешными они ни были (вот само их наличие имиджу реально мешает), поддерживая только то течение, с которым сама себя ассоциирует – национал-большевизм сталинского типа (хотя бы представители этого течения не были ее агентами, а в персональном плане даже как бы конкурентами).
Соответственно ни при каких обстоятельствах к власти «электоральным» путем не придут люди и партии, зарекомендовавшие себя как «антипатриотические», поддерживавшие либо внешних врагов РФ, либо сепаратистские движения внутри - все те, кто связан был с поддержкой масхадовых-басаевых, укромайдана и т.п. (единственный раз, когда СПС имел какой-то успех – когда в 1999 его руководство поддержало подавление Чечни), а нынешние представители направления практически все в чем-то таком были замешаны. Конечно, к концу путинского правления они станут такими же «старцами», но едва ли в ближайшие годы появится новая партия «патриотических либералов» (национальной буржуазии в РФ нет и за это время не с чего ей возникнуть – все это возможно только с новой «перестройкой» и новым поколением).
Единственный шанс людей этого склада – это как раз избежать перестройки и потрясений, связанных со свободой политической деятельности, став ко времени старения власти наиболее значимым ее компонентом и «продолжить» ее, придав ей соответствующее направление. Шансы на это коренятся в гибридной природе режима, причем именно его чисто-путинского (а не более «красного» - с бОльшим влиянием КПРФ) варианта. Совершенно очевидно, что отказываться от услуг тех, кого принято называть «системными либералами» власть, несмотря на волну возмущения «патриотической общественности» и, казалось бы, «логику момента», не собирается (и с точки зрения ее интересов – совершенно правильно). Дело только в составе этих лиц. Вот заблаговременное проникновение в их среду «новой крови», людей, принадлежащих уже к новому поколению (или на грани того) существенно изменило бы дело. Если мы увидим, что в Политбюро появляются «молодые члены» именно этого склада, то вероятность плавного продолжения (без «перестройки») резко возрастает.
Мне кажется, что для нетерпеливых людей «либерального» склада это достаточно утешительный вариант, ибо в случае, если властные круги вдруг действительно будут поставлены в эти 10-15 лет в настолько тяжелое положение, что речь пойдет о замене нацлидера (что едва ли случится), приход кого-то «более либерального» сравнительно мало вероятен (разве что сам Путин резко станет «либералом»; если же он потерпит вовне слишком очевидное и слишком унизительное поражение, перейти «на положение Китая» не получится – скорее уж можно ожидать кого-то «более патриотичного»).
Мысль о том, что ухудшение экономического положения и рост недовольства населения каким-то образом может способствовать реализации их интересов, представляется мне совершенно курьезной: от этого выигрывает только более левая (и более им враждебная) часть режима в лице «системных партий», прежде всего КПРФ. Если бы вдруг «политика» началась сейчас, ни малейших электоральных перспектив «либералы» бы не имели. Да, ситуация ухудшается, но следствием может быть только то, что КПРФ-СР-ЛДПР несколько потеснят ЕР (может быть, уже на выборах 2016 г.), но режим никоим образом не дрогнет, он станет только более «красным». Путину-ЕР вообще не обязательно иметь даже простое большинство: отсутствие его создает лишь некоторые технические трудности и психологические неприятности, но сути не меняет, ибо все остальные «партии» представляют тот же самый режим. (Гораздо более слабая ельцынская власть вполне благополучно существовала, имея рейтинг менее 6%, гораздо худшие материальные условия жизни населения и многотысячные против себя демонстрации). В самом крайнем случае может быть создана новая «Родина», а также и подконтрольная «правая» партия (я бы на их месте так и поступил).
Нынешний «постсоветский» режим совершенно адекватен настроениям и психологии большинства населения. Вот когда такой адекватности нет, и власть менталитетом населения категорически недовольна, она его целенаправленно ломает вплоть до самых жестких мер – как делали это большевики или, допустим, Ататюрк в Турции. Но после 1991 г. ничего такого не делалось, советская идеологическая система не отвергалась, новая власть даже не заявляла себя ее противником, имели место лишь отдельные мягкие выпады против нее, призванные хоть как-то оправдать перераспределение богатства, но в то же время не раздражать излишне население еще и покушением на его «ценности». Путин, при котором и вовсе всё стало на свои места, - просто наиболее удачное и полное его воплощение. Столь же удачное, как и многочисленные детали, оформляющие его правление. Внук Молотова (деду вполне единомышленный), поставленный во главе «Русского мира» (организации, призванной агитировать «соотечественников» во всем мире) или опознавательный знак самолетов –здоровенная красная звезда в обрамлении тончайшей и почти незаметной бело-синей каймы – чертовски символичны.
Поскольку же настроения населения в высокой степени «абстрактно патриотичны» (роспуском СССР эти чувства были сильно унижены, но «опущено» население, как в побежденных Германии и Японии, не было), то при любой свободной игре политических сил (что сейчас, что и после Путина) выбор будет между различными направлениями патриотизма – от откровенно красного до чистых националистов. Поэтому, кстати, власть, основывающая свою популярность именно и прежде всего на патриотизме и державности старается заблаговременно прижимать не «либералов-западников» (наличие которых ей в этом смысле чрезвычайно выгодно, ибо патриотической она может выглядеть только на их фоне), а «альтернативных патриотов», сколь бы ничтожными и смешными они ни были (вот само их наличие имиджу реально мешает), поддерживая только то течение, с которым сама себя ассоциирует – национал-большевизм сталинского типа (хотя бы представители этого течения не были ее агентами, а в персональном плане даже как бы конкурентами).
Соответственно ни при каких обстоятельствах к власти «электоральным» путем не придут люди и партии, зарекомендовавшие себя как «антипатриотические», поддерживавшие либо внешних врагов РФ, либо сепаратистские движения внутри - все те, кто связан был с поддержкой масхадовых-басаевых, укромайдана и т.п. (единственный раз, когда СПС имел какой-то успех – когда в 1999 его руководство поддержало подавление Чечни), а нынешние представители направления практически все в чем-то таком были замешаны. Конечно, к концу путинского правления они станут такими же «старцами», но едва ли в ближайшие годы появится новая партия «патриотических либералов» (национальной буржуазии в РФ нет и за это время не с чего ей возникнуть – все это возможно только с новой «перестройкой» и новым поколением).
Единственный шанс людей этого склада – это как раз избежать перестройки и потрясений, связанных со свободой политической деятельности, став ко времени старения власти наиболее значимым ее компонентом и «продолжить» ее, придав ей соответствующее направление. Шансы на это коренятся в гибридной природе режима, причем именно его чисто-путинского (а не более «красного» - с бОльшим влиянием КПРФ) варианта. Совершенно очевидно, что отказываться от услуг тех, кого принято называть «системными либералами» власть, несмотря на волну возмущения «патриотической общественности» и, казалось бы, «логику момента», не собирается (и с точки зрения ее интересов – совершенно правильно). Дело только в составе этих лиц. Вот заблаговременное проникновение в их среду «новой крови», людей, принадлежащих уже к новому поколению (или на грани того) существенно изменило бы дело. Если мы увидим, что в Политбюро появляются «молодые члены» именно этого склада, то вероятность плавного продолжения (без «перестройки») резко возрастает.
Мне кажется, что для нетерпеливых людей «либерального» склада это достаточно утешительный вариант, ибо в случае, если властные круги вдруг действительно будут поставлены в эти 10-15 лет в настолько тяжелое положение, что речь пойдет о замене нацлидера (что едва ли случится), приход кого-то «более либерального» сравнительно мало вероятен (разве что сам Путин резко станет «либералом»; если же он потерпит вовне слишком очевидное и слишком унизительное поражение, перейти «на положение Китая» не получится – скорее уж можно ожидать кого-то «более патриотичного»).
Published on December 14, 2015 01:03
December 10, 2015
Досадные заблуждения
Что мне всегда казалось досадным – так это вера в патриотическую миссию «нацлидера» совершенно несоветских людей, не могущих отрицать очевидные проявления его советофилии (и весьма этим недовольных), но, тем не менее, сохраняющих какие-то иллюзии насчет того, что, воинствуя объективно за русские или российские интересы, ему придется отбросить несовместимое с ними советское наследие. Да, конечно, серьезное западение на цель и вовлеченность в действия, находящиеся в противоречии с исповедуемыми принципами, неизбежно предполагает в конце-концов отбрасывание этих принципов (так, убежденный холостяк, всерьез «заболевший» женщиной, внебрачная связь с которой заведомо невозможна, зайдя достаточно далеко по пути ухаживания, бывает все-таки вынужден жениться). На что-то такое и была надежда. Но в данном случае и само желание (в наличие какового я лично вовсе не верю) было явно переоценено.
Приходится констатировать, что престиж Путина держится на представлениях о наличии у него великих патриотических замыслов («поднятия с колен», консолидации «русского мира», «возрождения империи» и т.д.), которые свойственны ему быть не могут. Откуда бы им взяться? Когда человек с юности увлечен какой-то идеей, живет ею, ведет за нее многолетнюю политическую борьбу в составе какой-то партии или, тем более, создает такую свою и, наконец, «с боем» приходит к власти – тогда да, он проводит политику, прямо из этой идеи вытекающую (вот как тот же Эрдоган). Но Путин – человек случайный. Он был взят и поставлен Ельцыным только за свои личные качества, еще за полгода-год до того не подозревая о своей «великой миссии» и не зная, что выбор падет именно на него (еще весной 1999 рассматривались другие варианты). Не говоря уж о том, что когда вопрос о «великодержавии» реально решался, он принадлежал к противоположной партии, честно служа одному из главных его разрушителей.
Оказавшись на посту и окружив себя знакомыми людьми, он был озабочен только сохранением власти этой группы. Конечно, общая ностальгия по Совку у него имелась, и он, коль скоро это ничего ему не стоило (и в той мере, в какой не стоило), удовлетворил свои симпатии (к тому же совпадающие с той системой управления, в которой он чувствовал себя наиболее комфортно). Но для этого пределов РФ плюс иллюзии «дружбы» с лукашенками-януковичами-назарбаевыми в «Евразийском союзе» (бледной тени СССР) было совершенно достаточно и никаких «русских миров» и «империй» не требовалось.
Но если бы даже «великие патриотические замыслы» и могли вдруг осенить озабоченных совсем другим людей (всяко бывает), они упирались бы в две «невозможности», проистекающие из самой гибридной природы режима (с одной стороны – Совок, с другой, зависимый от «Запада»).
1. Оставаясь совком, он не может отречься от признания легитимности устройства советского (и, соответственно – как неизбежного следствия - постсоветского) пространства и положения в нем РФ, без чего все подобные замыслы абсолютно непредставимы. По той же причине (внутренней советскости) он не смог (и не мог) за полтора десятилетия создать нормальную конкурентную экономику (хотя адекватные представления об этом имелись и им излагались) и обеспечить стране достаточные возможности для конфронтации с внешнем миром (при том, что РФ, как я уже писал, «недосовок», не имеющий мобилизационных преимуществ настоящего, но обладающий всеми его недостатками).
2. Невозможно представить себе серьезную конфронтацию РФ (каковая неизбежна не только при осуществлении, но и при заявке на такие замыслы) со странами, от которых она не только зависит как государство в целом, но с которыми накрепко связана по отдельности и вся ее элита, не мыслящая другой жизни, как держать там свои семьи и имущество и в случае опалы перебираться самой.
На чем, собственно, создались представления о "великих замыслах"? В начале правления ни о чем таком речи не шло (пресечение чеченского сепаратизма и налаживание элементарной управляемости страной после полного хаоса 90-х и всевластия местных бандитов и региональных баронов были чисто внутренней проблемой, без решения которой эта власть вообще не могла состояться), напротив, вовне сдавались и остатки присутствия (Камрань, Лурдес) и всячески демонстрировалась приверженность «партнерам» (ни малейшей работы по созданию "пророссийских сил" в лимитрофах вообще никогда не велось). Патриотические нотки зазвучали, когда «партнеры» решили, что он все-таки «недостаточно демократичен» и захотели большего – еще «улучшить» РФ-ную власть, а то и совсем ее сменить. Вот тут разговоры о «независимости» начались, но их было совершенно недостаточно, и 3-4 года назад престиж власти (уже поднадоевшей) находился на минимальном за все время уровне.
По сути – дело решил всего лишь случайный эмоциональный шаг (взятие Крыма), конечно, совершенно необходимый как утешительный приз и моральная компенсация, но бывший на самом деле лишь следствием полного провала (из-за киевского переворота) даже скромных интеграционных планов. Но и от последствий и этого шага, сильно осложнившего ему жизнь, он теперь не знает как отделаться.
Патриотическая общественность полагала, что это только первый шаг и за этим что-то еще последует. Но ничего не последовало. Да и что могло последовать? Что он еще может сделать, как еще продвинуться что на Украине, что в Сирии? Больше того, что он уже сделал (сам испугавшись и оправдываясь за содеянное) сделать он больше ничего не может. Какая еще победа может быть достигнута в Сирии? Даже максимум того, что можно достичь - ликвидация исламистских анклавов внутри контролируемой Асадом территории и ее расширение на севере до турецкой границы, представляет, как видим, огромные трудности, но принципиально ничего не меняет и ни на кого в РФ впечатления не произведет. По Украине – и того хуже. Политически Донбасс давно сдан «Минском», и максимум возможного – затягивание его реализации до превращения в «Приднестровье». Ни расширить его территорию до границ областей, ни создать «Новороссию», ни, тем более, вернуть всю Украину к хотя бы к формальной лояльности Путин, оставаясь собой и в рамках своих представлений, сделать не может и не осмелится. Вот и все «возрождение» (а то еще после 2017 как бы «с колен» на четвереньки встать не пришлось).
Некоторые (из числа некрасных националистов) пошли даже дальше, вздумав радоваться, что за Донбасс выступили вместе «красные» и «белые» («кто бы мог подумать!»). Радоваться, конечно, не стоило, потому что это не красная власть со своими прохановыми-холмогоровыми-кургинянами к ним присоединилась, а они – к ней (и в результате имело место только общее покраснение в РФ). Но вот в этой среде некоторое отрезвление уже наступило – когда притеснять и искать «экстремизм» стали именно у них, доступно объяснив, что такие союзники власти не нужны (достаточно «холмогоровых»). Так что и в той среде, которую я имею в виду, досадные эти заблуждения долго не продлятся, но все равно жаль, что они имели место.
Приходится констатировать, что престиж Путина держится на представлениях о наличии у него великих патриотических замыслов («поднятия с колен», консолидации «русского мира», «возрождения империи» и т.д.), которые свойственны ему быть не могут. Откуда бы им взяться? Когда человек с юности увлечен какой-то идеей, живет ею, ведет за нее многолетнюю политическую борьбу в составе какой-то партии или, тем более, создает такую свою и, наконец, «с боем» приходит к власти – тогда да, он проводит политику, прямо из этой идеи вытекающую (вот как тот же Эрдоган). Но Путин – человек случайный. Он был взят и поставлен Ельцыным только за свои личные качества, еще за полгода-год до того не подозревая о своей «великой миссии» и не зная, что выбор падет именно на него (еще весной 1999 рассматривались другие варианты). Не говоря уж о том, что когда вопрос о «великодержавии» реально решался, он принадлежал к противоположной партии, честно служа одному из главных его разрушителей.
Оказавшись на посту и окружив себя знакомыми людьми, он был озабочен только сохранением власти этой группы. Конечно, общая ностальгия по Совку у него имелась, и он, коль скоро это ничего ему не стоило (и в той мере, в какой не стоило), удовлетворил свои симпатии (к тому же совпадающие с той системой управления, в которой он чувствовал себя наиболее комфортно). Но для этого пределов РФ плюс иллюзии «дружбы» с лукашенками-януковичами-назарбаевыми в «Евразийском союзе» (бледной тени СССР) было совершенно достаточно и никаких «русских миров» и «империй» не требовалось.
Но если бы даже «великие патриотические замыслы» и могли вдруг осенить озабоченных совсем другим людей (всяко бывает), они упирались бы в две «невозможности», проистекающие из самой гибридной природы режима (с одной стороны – Совок, с другой, зависимый от «Запада»).
1. Оставаясь совком, он не может отречься от признания легитимности устройства советского (и, соответственно – как неизбежного следствия - постсоветского) пространства и положения в нем РФ, без чего все подобные замыслы абсолютно непредставимы. По той же причине (внутренней советскости) он не смог (и не мог) за полтора десятилетия создать нормальную конкурентную экономику (хотя адекватные представления об этом имелись и им излагались) и обеспечить стране достаточные возможности для конфронтации с внешнем миром (при том, что РФ, как я уже писал, «недосовок», не имеющий мобилизационных преимуществ настоящего, но обладающий всеми его недостатками).
2. Невозможно представить себе серьезную конфронтацию РФ (каковая неизбежна не только при осуществлении, но и при заявке на такие замыслы) со странами, от которых она не только зависит как государство в целом, но с которыми накрепко связана по отдельности и вся ее элита, не мыслящая другой жизни, как держать там свои семьи и имущество и в случае опалы перебираться самой.
На чем, собственно, создались представления о "великих замыслах"? В начале правления ни о чем таком речи не шло (пресечение чеченского сепаратизма и налаживание элементарной управляемости страной после полного хаоса 90-х и всевластия местных бандитов и региональных баронов были чисто внутренней проблемой, без решения которой эта власть вообще не могла состояться), напротив, вовне сдавались и остатки присутствия (Камрань, Лурдес) и всячески демонстрировалась приверженность «партнерам» (ни малейшей работы по созданию "пророссийских сил" в лимитрофах вообще никогда не велось). Патриотические нотки зазвучали, когда «партнеры» решили, что он все-таки «недостаточно демократичен» и захотели большего – еще «улучшить» РФ-ную власть, а то и совсем ее сменить. Вот тут разговоры о «независимости» начались, но их было совершенно недостаточно, и 3-4 года назад престиж власти (уже поднадоевшей) находился на минимальном за все время уровне.
По сути – дело решил всего лишь случайный эмоциональный шаг (взятие Крыма), конечно, совершенно необходимый как утешительный приз и моральная компенсация, но бывший на самом деле лишь следствием полного провала (из-за киевского переворота) даже скромных интеграционных планов. Но и от последствий и этого шага, сильно осложнившего ему жизнь, он теперь не знает как отделаться.
Патриотическая общественность полагала, что это только первый шаг и за этим что-то еще последует. Но ничего не последовало. Да и что могло последовать? Что он еще может сделать, как еще продвинуться что на Украине, что в Сирии? Больше того, что он уже сделал (сам испугавшись и оправдываясь за содеянное) сделать он больше ничего не может. Какая еще победа может быть достигнута в Сирии? Даже максимум того, что можно достичь - ликвидация исламистских анклавов внутри контролируемой Асадом территории и ее расширение на севере до турецкой границы, представляет, как видим, огромные трудности, но принципиально ничего не меняет и ни на кого в РФ впечатления не произведет. По Украине – и того хуже. Политически Донбасс давно сдан «Минском», и максимум возможного – затягивание его реализации до превращения в «Приднестровье». Ни расширить его территорию до границ областей, ни создать «Новороссию», ни, тем более, вернуть всю Украину к хотя бы к формальной лояльности Путин, оставаясь собой и в рамках своих представлений, сделать не может и не осмелится. Вот и все «возрождение» (а то еще после 2017 как бы «с колен» на четвереньки встать не пришлось).
Некоторые (из числа некрасных националистов) пошли даже дальше, вздумав радоваться, что за Донбасс выступили вместе «красные» и «белые» («кто бы мог подумать!»). Радоваться, конечно, не стоило, потому что это не красная власть со своими прохановыми-холмогоровыми-кургинянами к ним присоединилась, а они – к ней (и в результате имело место только общее покраснение в РФ). Но вот в этой среде некоторое отрезвление уже наступило – когда притеснять и искать «экстремизм» стали именно у них, доступно объяснив, что такие союзники власти не нужны (достаточно «холмогоровых»). Так что и в той среде, которую я имею в виду, досадные эти заблуждения долго не продлятся, но все равно жаль, что они имели место.
Published on December 10, 2015 00:13
December 7, 2015
Небессмысленные мечтания
Замечено, что кое-кто стал задаваться вопросами, не стоит ли создавать новые партии и даже «партию нового типа». Занятие ныне, конечно, совершенно бессмысленное: в стране, где нет политики, не может быть и партий (их элементарно «не зарегистрируют»). Однако на перспективу какие-то такие телодвижения могут быть вовсе не напрасны. Созданные ныне партии-то вряд ли доживут, не распавшись, но некоторая консолидация ряда «направлений» в ожидании времени, когда «политика» снова начнется, вполне перспективна, так что даже людям «плюс-минус 40» вполне есть резон о чем-то таком помечтать.
Нынешний режим, которому вот уже лет десять ежегодно предсказывают скорое падение, в обозримом будущем абсолютно несокрушим, но, намеренная сидеть до смерти и «своих не сдающая» власть, осуществив свое желание, всей компанией неумолимо превратится в надоевших «кремлевских старцев», после чего последует новая «перестройка». А с ней неизбежно вернется и «политика» с выборами, партиями и т.п. При этом будущая «перестройка» будет гораздо интереснее предыдущей, и на нее, конечно, очень хотелось бы посмотреть.
Та совершалась в условиях абсолютной непросвещенности не только населения (оно везде и всегда будет в этом качестве), но и администрации, «образованного слоя», «политического класса» и вообще всего политически активного элемента – тех, кто склонен чем-то интересоваться, читать, ходить на демонстрации и т.п. Выросшим после нее трудно и представить себе тогдашний уровень невежества в отношении истории и культуры даже собственной страны, с которым общество подошло к «перестройке» (не говоря о «фактуре», даже само существование имен и произведений, ныне до предела «затасканных», было тогда откровением; только за пару лет рубежа 90-х было опубликовано на порядок больше «настоящих» книг, чем за все время соввласти).
Информационный прорыв был колоссальным. Но он произошел и сколько-то сказался уже тогда, когда перестройка закончилась и новая власть установилась безальтернативно, поэтому на этот процесс повлиять не мог. Но теперь уровень информированности совершенно иной, и когда «политика» вновь начнется, она начнется уже в этих условиях, почему и имеет шанс быть сколько-то нормальной.
Если в «естественных» долговременных системах смена поколений либо вообще мало значит, либо приносит в основном «стилистические» изменения, то в «противоестественной» она имеет определяющее значение, все «переломы» связаны именно с ней. С одним («дедовским») поколением связано установление этой системы, с другим – ее полное господство, мое – учинило «перестройку» и сейчас у власти, следующее – сделает свою. В долговременных системах власть меняется постепенно и совершенно нормально одновременное присутствие там в сопоставимых пропорциях людей двух поколений, в «экспериментальных» - она, как правило, монополизирована одним поколением, а представители другого присутствуют лишь в виде исключения или, во всяком случае, в небольшом числе, не обеспечивающим плавность и незаметность преемственности.
Старение всей «несдающейся» компанией, предполагает смену ее в ходе новой «перестройки» не следующим по положению во власти эшелоном, в основном того же поколения (поколение – это 25-30 лет, люди, родившиеся внутри этого периода, принадлежат к одному поколению), а представителями другого поколения (80-х и более г.р.), как то имело место и в прошлой, когда «маршалов» сменили в основном не «генерал-полковники» и «генерал-лейтенанты», а «полковники» и некоторая часть «генерал-майоров» (к собственно военным структурам это отношения не имело, там смена происходила «регулярно», почему там ничего и не изменилось).
В принципе наличие слоя «генералов», которым из-за «своих-не-сдавания» никогда не стать «маршалами» создает известную опасность для власти, особенно если та будет переживать трудности, но все-таки шансы превратиться в «кремлевских старцев» у нее достаточно велики.
Обратим внимание и на то что комплектование власти происходит в общем-то по советской модели – вне прямой генетической связи: тогда детей пристраивали на престижные и уютные места, обеспечивая им примерно тот же уровень комфорта, но в целях сохранения системы на непосредственно властно-административные посты практически никогда не назначали (прямое «профнаследование» было характерно лишь для ряда специфических отраслей, не имевших прямого выхода на «основную» власть). Так и теперь практически все дети высших лиц – члены советов директоров, банкиры и т.д., но не министры и вообще не «политики» (да и нет у них достаточного количества политически активных детей). Это лишний раз говорит в пользу того, что будущая «перестройка» будет иметь тот характер, о котором я говорил.
Так что людям, ныне повесившим нос, придется потерпеть максимум 20 лет (уж к этому времени команда точно в таком составе не доживет), а, скорее всего, даже и меньше – лет 15 (а может – и 10), причем уже довольно скоро П. придется изворачиваться, т.к. не факт, что ему удастся договориться с новой администрацией США о неприкосновенности (т.е. переводе «на положение Китая»; мы никуда лезть не будем, но вы оставьте претензии к нашему политстрою и не пытайтесь его подрывать), а если и удастся – то с имиджем возродителя «русского мира» придется полностью расстаться. И вот тут возможны будут движения, которые, в одном случае, могут отдалить перестройку, а в ином – привести к инициированию (и приближению) ее самой властью. Если такие тенденции будут, то станут заметны уже года через три.
Нынешний режим, которому вот уже лет десять ежегодно предсказывают скорое падение, в обозримом будущем абсолютно несокрушим, но, намеренная сидеть до смерти и «своих не сдающая» власть, осуществив свое желание, всей компанией неумолимо превратится в надоевших «кремлевских старцев», после чего последует новая «перестройка». А с ней неизбежно вернется и «политика» с выборами, партиями и т.п. При этом будущая «перестройка» будет гораздо интереснее предыдущей, и на нее, конечно, очень хотелось бы посмотреть.
Та совершалась в условиях абсолютной непросвещенности не только населения (оно везде и всегда будет в этом качестве), но и администрации, «образованного слоя», «политического класса» и вообще всего политически активного элемента – тех, кто склонен чем-то интересоваться, читать, ходить на демонстрации и т.п. Выросшим после нее трудно и представить себе тогдашний уровень невежества в отношении истории и культуры даже собственной страны, с которым общество подошло к «перестройке» (не говоря о «фактуре», даже само существование имен и произведений, ныне до предела «затасканных», было тогда откровением; только за пару лет рубежа 90-х было опубликовано на порядок больше «настоящих» книг, чем за все время соввласти).
Информационный прорыв был колоссальным. Но он произошел и сколько-то сказался уже тогда, когда перестройка закончилась и новая власть установилась безальтернативно, поэтому на этот процесс повлиять не мог. Но теперь уровень информированности совершенно иной, и когда «политика» вновь начнется, она начнется уже в этих условиях, почему и имеет шанс быть сколько-то нормальной.
Если в «естественных» долговременных системах смена поколений либо вообще мало значит, либо приносит в основном «стилистические» изменения, то в «противоестественной» она имеет определяющее значение, все «переломы» связаны именно с ней. С одним («дедовским») поколением связано установление этой системы, с другим – ее полное господство, мое – учинило «перестройку» и сейчас у власти, следующее – сделает свою. В долговременных системах власть меняется постепенно и совершенно нормально одновременное присутствие там в сопоставимых пропорциях людей двух поколений, в «экспериментальных» - она, как правило, монополизирована одним поколением, а представители другого присутствуют лишь в виде исключения или, во всяком случае, в небольшом числе, не обеспечивающим плавность и незаметность преемственности.
Старение всей «несдающейся» компанией, предполагает смену ее в ходе новой «перестройки» не следующим по положению во власти эшелоном, в основном того же поколения (поколение – это 25-30 лет, люди, родившиеся внутри этого периода, принадлежат к одному поколению), а представителями другого поколения (80-х и более г.р.), как то имело место и в прошлой, когда «маршалов» сменили в основном не «генерал-полковники» и «генерал-лейтенанты», а «полковники» и некоторая часть «генерал-майоров» (к собственно военным структурам это отношения не имело, там смена происходила «регулярно», почему там ничего и не изменилось).
В принципе наличие слоя «генералов», которым из-за «своих-не-сдавания» никогда не стать «маршалами» создает известную опасность для власти, особенно если та будет переживать трудности, но все-таки шансы превратиться в «кремлевских старцев» у нее достаточно велики.
Обратим внимание и на то что комплектование власти происходит в общем-то по советской модели – вне прямой генетической связи: тогда детей пристраивали на престижные и уютные места, обеспечивая им примерно тот же уровень комфорта, но в целях сохранения системы на непосредственно властно-административные посты практически никогда не назначали (прямое «профнаследование» было характерно лишь для ряда специфических отраслей, не имевших прямого выхода на «основную» власть). Так и теперь практически все дети высших лиц – члены советов директоров, банкиры и т.д., но не министры и вообще не «политики» (да и нет у них достаточного количества политически активных детей). Это лишний раз говорит в пользу того, что будущая «перестройка» будет иметь тот характер, о котором я говорил.
Так что людям, ныне повесившим нос, придется потерпеть максимум 20 лет (уж к этому времени команда точно в таком составе не доживет), а, скорее всего, даже и меньше – лет 15 (а может – и 10), причем уже довольно скоро П. придется изворачиваться, т.к. не факт, что ему удастся договориться с новой администрацией США о неприкосновенности (т.е. переводе «на положение Китая»; мы никуда лезть не будем, но вы оставьте претензии к нашему политстрою и не пытайтесь его подрывать), а если и удастся – то с имиджем возродителя «русского мира» придется полностью расстаться. И вот тут возможны будут движения, которые, в одном случае, могут отдалить перестройку, а в ином – привести к инициированию (и приближению) ее самой властью. Если такие тенденции будут, то станут заметны уже года через три.
Published on December 07, 2015 00:07
December 1, 2015
Вредные надежды
В очередной истории с «Войковской» расстроила меня разве что реакция алкавшей переименования и огорчившийся общественности. Господа, ну сколько уже можно… С самого начала история эта была откровенным глумливым троллингом со стороны власти, причем, что называется, «с особым цинизмом». Ах, вам имя не нравится, так мы вам еще пересадочный узел с тем же именем добавим. Руководствоваться «мнением народа» (скажем, по итогам приватизации или какой-нибудь медицинской реформы, да и по недавним переименованиям ряда других метростанций) у нас, конечно, не принято, но вот тут, специально для вас, голосование проведем, чтобы уж носом-то в дерьмо – «народ против». Вы сами зациклились на этом третьестепенном имени советского пантеона, полагая, надо думать, его наиболее одиозным, так сказать, «слабым звеном». Так вот мы вам на примере именно этого, ДАЖЕ ТАКОГО имени доходчиво объясняем, что «тема - закрыта».
Но люди ухитрились не понять, и, в течение многих лет неизменно получая при подобных поползновениях плевки в лицо, продолжают вести себя так, как будто это такая власть, у которой нечто подобное вообще-то можно просить, но что-то ей все время мешает пойти им навстречу. Последуй принципиальное политическое решение с оценкой большевистского переворота и советской власти (то есть оно есть, но не менялось с тех времен, когда выдвигать никаких «переименовательных» пожеланий в голову бы не пришло), всё устроилось бы само собой, а так это совершенно бессмысленно, и отдельные случайные «подачки» лишь поддерживают иллюзию обратного. Если б вдруг «Войкова» убрали (что вполне могло бы быть, не настройся на сей раз власть публично высечь надоевших хулиганов), представляю, сколько вредных надежд породила бы эта «великая победа».
Одно дело - подписывать такие воззвания (сам всегда это делаю, и даже на выборы хожу) просто потому, что такова твоя позиция, и другое – рассчитывать, что это что-нибудь изменит (и обижаться, что не меняет). Желать подарков от этой власти глупо и безнадежно. Желать можно только ликвидации-деформации самой этой власти.
Частью благонамеренной публики как-то вот до конца не осознано, что люди, конечно, бывают самые разные – можно быть джентльменом, можно – уркой, но приверженность к советско-коммунистической традиции образует сущность совершенно особого рода, лежащую вне человеческих понятий «хороший-плохой». Так вот нынешняя власть – это не русский урка, а советский павиан. Павиан вполне себе спокойный, не особо злобный и даже вполне толерантный, но… павиан. И не стоит ожидать от него вещей, которые павиан, не перестав быть собой, сделать не может.
Равно как и не стоит играть с ним в человеческие игры – что в политические (пытаться соперничать на каких-то «выборах»), что в идеологические (что-то объяснять и доказывать его «неправоту»). Это даже более бессмысленно, чем играть с шулерами: те нечестно, но играют, а павиан смысла игры не понимает. Он, скажем, совершенно искренне полагает, что если вместо «Красная Армия принесла освобождение народам Восточной Европы» написать, что она «принесла им рабство коммунистического тоталитаризма» - это будет «искажением истории» (искажением было бы утверждение, что Берлин был взят не в 1945, а к концу 1941, но для павиана «история» - это лишь трактовка-оценка), и столь же серьезно полагает, что, создав, напр., концепцию "единства нашей истории" (единства антиподов), вполне в силах сам ее «исказить» в свою пользу.
С павианами вообще не надо иметь дела – ни в качестве «оппозиции», ни - непрошеных объясняльщиков и «корректировщиков». Вы же не пытаетесь в зоопарке чему-то учить обезьян и влиять на их поведение, а только наблюдаете за их повадками и делитесь впечатлениями: это другой мир, в котором вы неуместны и ненужны.
Значит ли это, что нынешняя власть представляет собой наихудшее из возможных зол и к любым ее действиям следует относиться только крайне негативно? По-моему – вовсе нет. Во-первых, потому, что бывает и существует зло гораздо большее: та же павианская власть может быть и гораздо хуже, чем есть (содрать со своих недоброжелателей миллион рублей за оскорбление каких-то ее святынь и истребить их за то же самое вместе с чадами и домочадцами – разница хоть и не принципиальная, но весьма существенная), да и некоторые иные отвратительные монстры кажутся мне никак не меньшим злом. Во-вторых, враждуя с ними, она в любом случае делает благое дело (столкновение зла со злом – всегда благо), а многие ее действия объективно и перспективно полезны (в том числе и как ведущие к ликвидации-деформации ее самой).
Я лишь о том, что публичное ожидание от павианской власти подарков в плане отказа от каких-то элементов советского наследия способствует (помимо желания ожидающих) созданию впечатления о ней как о такой, с которой на эту тему вообще можно разговаривать, и укрепляет ее мародерские претензии на имя исторической России.
Помню, в школе, один наш ученик приобрел у сомнительных личностей кассету с тогда запрещенными «битлами». Собрались они в кружок, включили в предвкушении магнитофон, а оттуда глумливым голосом: «Вы хотели послушать битлов? Х… вам! Вы хотели послушать битлов? Х… вам!» и так вся пленка. Того парня целый год потом приветствовали при встрече не иначе как словами «Вы хотели послушать битлов?». Вот в таком именно положении оказались люди, пытавшиеся выпросить у власти отречение от какого-нибудь «Войкова». Мне за них обидно.
Но люди ухитрились не понять, и, в течение многих лет неизменно получая при подобных поползновениях плевки в лицо, продолжают вести себя так, как будто это такая власть, у которой нечто подобное вообще-то можно просить, но что-то ей все время мешает пойти им навстречу. Последуй принципиальное политическое решение с оценкой большевистского переворота и советской власти (то есть оно есть, но не менялось с тех времен, когда выдвигать никаких «переименовательных» пожеланий в голову бы не пришло), всё устроилось бы само собой, а так это совершенно бессмысленно, и отдельные случайные «подачки» лишь поддерживают иллюзию обратного. Если б вдруг «Войкова» убрали (что вполне могло бы быть, не настройся на сей раз власть публично высечь надоевших хулиганов), представляю, сколько вредных надежд породила бы эта «великая победа».
Одно дело - подписывать такие воззвания (сам всегда это делаю, и даже на выборы хожу) просто потому, что такова твоя позиция, и другое – рассчитывать, что это что-нибудь изменит (и обижаться, что не меняет). Желать подарков от этой власти глупо и безнадежно. Желать можно только ликвидации-деформации самой этой власти.
Частью благонамеренной публики как-то вот до конца не осознано, что люди, конечно, бывают самые разные – можно быть джентльменом, можно – уркой, но приверженность к советско-коммунистической традиции образует сущность совершенно особого рода, лежащую вне человеческих понятий «хороший-плохой». Так вот нынешняя власть – это не русский урка, а советский павиан. Павиан вполне себе спокойный, не особо злобный и даже вполне толерантный, но… павиан. И не стоит ожидать от него вещей, которые павиан, не перестав быть собой, сделать не может.
Равно как и не стоит играть с ним в человеческие игры – что в политические (пытаться соперничать на каких-то «выборах»), что в идеологические (что-то объяснять и доказывать его «неправоту»). Это даже более бессмысленно, чем играть с шулерами: те нечестно, но играют, а павиан смысла игры не понимает. Он, скажем, совершенно искренне полагает, что если вместо «Красная Армия принесла освобождение народам Восточной Европы» написать, что она «принесла им рабство коммунистического тоталитаризма» - это будет «искажением истории» (искажением было бы утверждение, что Берлин был взят не в 1945, а к концу 1941, но для павиана «история» - это лишь трактовка-оценка), и столь же серьезно полагает, что, создав, напр., концепцию "единства нашей истории" (единства антиподов), вполне в силах сам ее «исказить» в свою пользу.
С павианами вообще не надо иметь дела – ни в качестве «оппозиции», ни - непрошеных объясняльщиков и «корректировщиков». Вы же не пытаетесь в зоопарке чему-то учить обезьян и влиять на их поведение, а только наблюдаете за их повадками и делитесь впечатлениями: это другой мир, в котором вы неуместны и ненужны.
Значит ли это, что нынешняя власть представляет собой наихудшее из возможных зол и к любым ее действиям следует относиться только крайне негативно? По-моему – вовсе нет. Во-первых, потому, что бывает и существует зло гораздо большее: та же павианская власть может быть и гораздо хуже, чем есть (содрать со своих недоброжелателей миллион рублей за оскорбление каких-то ее святынь и истребить их за то же самое вместе с чадами и домочадцами – разница хоть и не принципиальная, но весьма существенная), да и некоторые иные отвратительные монстры кажутся мне никак не меньшим злом. Во-вторых, враждуя с ними, она в любом случае делает благое дело (столкновение зла со злом – всегда благо), а многие ее действия объективно и перспективно полезны (в том числе и как ведущие к ликвидации-деформации ее самой).
Я лишь о том, что публичное ожидание от павианской власти подарков в плане отказа от каких-то элементов советского наследия способствует (помимо желания ожидающих) созданию впечатления о ней как о такой, с которой на эту тему вообще можно разговаривать, и укрепляет ее мародерские претензии на имя исторической России.
Помню, в школе, один наш ученик приобрел у сомнительных личностей кассету с тогда запрещенными «битлами». Собрались они в кружок, включили в предвкушении магнитофон, а оттуда глумливым голосом: «Вы хотели послушать битлов? Х… вам! Вы хотели послушать битлов? Х… вам!» и так вся пленка. Того парня целый год потом приветствовали при встрече не иначе как словами «Вы хотели послушать битлов?». Вот в таком именно положении оказались люди, пытавшиеся выпросить у власти отречение от какого-нибудь «Войкова». Мне за них обидно.
Published on December 01, 2015 22:30
November 26, 2015
В утешение пацифистам
Уничтожение турками нашего самолета усилило и без того полюбившиеся публике предсказания о «войне» (ну, если не революция, не «крах режима», то хоть война: чем-нибудь да хочется нервы пощекотать). Да только опять напрасно. Даже если США и РФ примутся сбивать самолеты друг друга над Сирией или, пуще того, отдельные подразделения их пехоты столкнутся где-нибудь на территории третьих стран – это еще не «война» (в Корее вон американцам противостояло аж миллионное китайское воинство, а войны между КНР и США от того не проистекло, а уж от того, что израильские самолеты сбивались в основном советским персоналом, войны между СССР и Израилем – тем более). Война – это вторжение на территорию противника или, по крайней мере, удары непосредственно по ней. Но вот такого ни одна из великих держав по понятным соображениям в отношении сопоставимого противника предпринимать не станет.
А какой-нибудь «Вьетнам»… ему, вообще-то, по логике вещей, уже пора бы случиться, но индивидуальные особенности лидеров главных стран пока тому препятствуют. В условиях, когда после ВМВ объявлять друг другу войну стало «дурным тоном», а воевать-то все равно приходится, всякого рода опосредованные войны чужими руками или прямые, но неофициальные («гибридные» - дурацкое какое-то слово) становятся, естественно, магистральным путем. Но в данном турецком случае едва ли и здесь далеко зайдет.
Если не принимать всерьез всеобщий лицемерный бред о желании совместно бороться против «террористов» (по факту противоречия и вражда между США и РФ и даже крупных региональных держав друг с другом неизмеримо сильнее, чем любой из них - с Халифатом), достаточно очевидно, что РФ в Сирии «воюет» если и не с США (ну разве очень-очень «опосредованно»), то напрямую с Турцией (так что сбитый СУ - удар вовсе не «в спину», а прямехонько в лицо). Во всяком ином случае такая атака была бы, разумеется, абсолютно невиданным свинством, совершенно невозможным между невоюющими странами.
Но дело обстоит иным образом, и турки предпочли бы, чтобы РФ по десять раз на дню просто «нарушала ее воздушное пространство», чем бомбила в Сирии турецкое воинство (даже ни разу через границу не залетая). А именно этим российские самолеты главным образом и занимаются, и вот это туркам совершенно невыносимо (если б чьи-то самолеты бомбили, да еще возле самой границы, повстанцев, ориентированных на данную страну, всякая сбивала бы их при первой возможности и под любым предлогом).
Путин с Эрдоганом ссориться вовсе не желал (даже пытался заигрывать), но объективно получилось так, что, выполняя в Сирии единственно возможную ограниченную задачу (закрепления за Асадом прибрежной части Сирии), ему пришлось наступить на ногу именно и прежде всего Эрдогану, поскольку этой полосе угрожает вовсе не Халифат, лежащий много восточнее, а именно чисто протурецкие («Нусра» и прочие) группировки, которые воюют как раз на примыкающей территории. Естественно, что на них и пришлось 90% всех РФ-ных ударов.
Турция после прихода к власти исламистов однозначно взяла курс на возрождение империи (Эрдоган не скрывал намерение «вернуться туда, где были наши предки»), что повлекло совершенно иное поведение: стремление доминировать на всем БВ и покровительствовать всем суннитам (в т.ч. резко ухудшились отношения с Израилем). На СА и Египет претензии, конечно, пока не распространяются, но распавшиеся Ирак и Сирия вполне мыслятся как зоны влияния, и прежде всего Сирия, где, в отличие от Ирака, суннитов абсолютное большинство и есть тюрки. Хоть и принято во всем видеть руку только США, но турки в данном случае выступили как совершенно самостоятельный игрок, и это прежде всего они инициировали восстание против Асада, и теперь, наплевав на США (которые все равно не могут с ними ссориться), проводят свою независимую политику (вместо Халифата бомбя курдов).
Путин и Эрдоган люди одного склада, но разница в степени решимости и характере мотивов действий на БВ у них совершенно разная. Для Эрдогана контроль над Сирией и исламско-имперская задумка – «дело жизни», он и показал, что готов на всё. Для Путина вся внешняя политика служит лишь цели укрепления власти внутри страны: по большому счету - перейти «на положение Китая», т.е. добиться того, чтобы «Запад» в лице США раз и навсегда отказался от претензий к политической системе РФ и покушений на нее. В Сирии, как и везде, он стремится занять такие высоты, с которых мог бы всерьез об этом договариваться (а договорившись – сдать их), но Сирия - лишь одно из этих направлений. Она для РФ совершенно не так важна, как для Турции.
Поэтому Путин, скорее всего, утрется, и, сделав ряд воинственных заявлений для внутрироссийского употребления, спустит дело на тормозах (как то уже имело в гораздо более важном для РФ месте - на Донбассе весной прошлого года). В ином случае логично было бы усилить военные действия именно на «турецком» направлении и выйти на турецкую границу, отрезав от нее туркофильские группировки, Но это, как показал инцидент, связано с необходимостью сбивать турецкие самолеты (а тогда уж заодно и бомбящие курдов), а на это вряд ли Путин пойдет. Едва ли он решится даже перетащить в Сирию достаточно С-400 (хотя как жест это не исключено). Так или иначе, полноценный турецкий «Вьетнам» не кажется здесь особенно вероятным. Разве что турки этого захотят, но тогда, похоже, придется отступить и в итоге ограничиться сохранением под контролем алавитов более скромной территории, чем предполагалось.
А какой-нибудь «Вьетнам»… ему, вообще-то, по логике вещей, уже пора бы случиться, но индивидуальные особенности лидеров главных стран пока тому препятствуют. В условиях, когда после ВМВ объявлять друг другу войну стало «дурным тоном», а воевать-то все равно приходится, всякого рода опосредованные войны чужими руками или прямые, но неофициальные («гибридные» - дурацкое какое-то слово) становятся, естественно, магистральным путем. Но в данном турецком случае едва ли и здесь далеко зайдет.
Если не принимать всерьез всеобщий лицемерный бред о желании совместно бороться против «террористов» (по факту противоречия и вражда между США и РФ и даже крупных региональных держав друг с другом неизмеримо сильнее, чем любой из них - с Халифатом), достаточно очевидно, что РФ в Сирии «воюет» если и не с США (ну разве очень-очень «опосредованно»), то напрямую с Турцией (так что сбитый СУ - удар вовсе не «в спину», а прямехонько в лицо). Во всяком ином случае такая атака была бы, разумеется, абсолютно невиданным свинством, совершенно невозможным между невоюющими странами.
Но дело обстоит иным образом, и турки предпочли бы, чтобы РФ по десять раз на дню просто «нарушала ее воздушное пространство», чем бомбила в Сирии турецкое воинство (даже ни разу через границу не залетая). А именно этим российские самолеты главным образом и занимаются, и вот это туркам совершенно невыносимо (если б чьи-то самолеты бомбили, да еще возле самой границы, повстанцев, ориентированных на данную страну, всякая сбивала бы их при первой возможности и под любым предлогом).
Путин с Эрдоганом ссориться вовсе не желал (даже пытался заигрывать), но объективно получилось так, что, выполняя в Сирии единственно возможную ограниченную задачу (закрепления за Асадом прибрежной части Сирии), ему пришлось наступить на ногу именно и прежде всего Эрдогану, поскольку этой полосе угрожает вовсе не Халифат, лежащий много восточнее, а именно чисто протурецкие («Нусра» и прочие) группировки, которые воюют как раз на примыкающей территории. Естественно, что на них и пришлось 90% всех РФ-ных ударов.
Турция после прихода к власти исламистов однозначно взяла курс на возрождение империи (Эрдоган не скрывал намерение «вернуться туда, где были наши предки»), что повлекло совершенно иное поведение: стремление доминировать на всем БВ и покровительствовать всем суннитам (в т.ч. резко ухудшились отношения с Израилем). На СА и Египет претензии, конечно, пока не распространяются, но распавшиеся Ирак и Сирия вполне мыслятся как зоны влияния, и прежде всего Сирия, где, в отличие от Ирака, суннитов абсолютное большинство и есть тюрки. Хоть и принято во всем видеть руку только США, но турки в данном случае выступили как совершенно самостоятельный игрок, и это прежде всего они инициировали восстание против Асада, и теперь, наплевав на США (которые все равно не могут с ними ссориться), проводят свою независимую политику (вместо Халифата бомбя курдов).
Путин и Эрдоган люди одного склада, но разница в степени решимости и характере мотивов действий на БВ у них совершенно разная. Для Эрдогана контроль над Сирией и исламско-имперская задумка – «дело жизни», он и показал, что готов на всё. Для Путина вся внешняя политика служит лишь цели укрепления власти внутри страны: по большому счету - перейти «на положение Китая», т.е. добиться того, чтобы «Запад» в лице США раз и навсегда отказался от претензий к политической системе РФ и покушений на нее. В Сирии, как и везде, он стремится занять такие высоты, с которых мог бы всерьез об этом договариваться (а договорившись – сдать их), но Сирия - лишь одно из этих направлений. Она для РФ совершенно не так важна, как для Турции.
Поэтому Путин, скорее всего, утрется, и, сделав ряд воинственных заявлений для внутрироссийского употребления, спустит дело на тормозах (как то уже имело в гораздо более важном для РФ месте - на Донбассе весной прошлого года). В ином случае логично было бы усилить военные действия именно на «турецком» направлении и выйти на турецкую границу, отрезав от нее туркофильские группировки, Но это, как показал инцидент, связано с необходимостью сбивать турецкие самолеты (а тогда уж заодно и бомбящие курдов), а на это вряд ли Путин пойдет. Едва ли он решится даже перетащить в Сирию достаточно С-400 (хотя как жест это не исключено). Так или иначе, полноценный турецкий «Вьетнам» не кажется здесь особенно вероятным. Разве что турки этого захотят, но тогда, похоже, придется отступить и в итоге ограничиться сохранением под контролем алавитов более скромной территории, чем предполагалось.
Published on November 26, 2015 05:49
November 24, 2015
Русская кавалерия в Первой мировой войне
Вышел первый сборник воспоминаний из тех, что я хотел издать: «Русская кавалерия в Первой мировой войне» («Айрис» датировал его уже 2016 годом). Вошло более 70 материалов полусотни авторов – практически всё, что когда-то публиковалось в эмиграции (не удалось найти только двух), разбитых по 4 разделам (1 — мемуары офицеров полков 1-й — 5-й кавалерийских дивизий, 2 — 6-й — 10-й, 3 — остальных и 4 — пограничных конных полков).
Сейчас набирается еще один том (казачий), но поскольку первоначальным замыслам (три кавалерийских тома) не дано осуществиться, а гвардейская кавалерия с казаками в один том не умещается, в него решено было включить и воспоминания казачьих пластунов и артиллеристов (сюда же войдут еще мемуары о Кавказской туземной конной дивизии). Но это и всё; есть крайне малая вероятность публикации тома о технических войсках и артиллерии (руководство — из технарей питает к ним некоторую слабость) — если будет продаваться кавалерия (а она по нынешним обстоятельствам будет продаваться плохо). Некоторые воспоминания офицеров разных родов войск войдут в планируемый трехтомник по 1917 году (общеполитический, но в каждом томе предусмотрены разделы о событиях на фронте), который издательство «к юбилею» рассчитывает продать (и которым мне предстоит заниматься). А «Кавалерия», оформленная в фирменном айрисовском стиле, выглядит так:
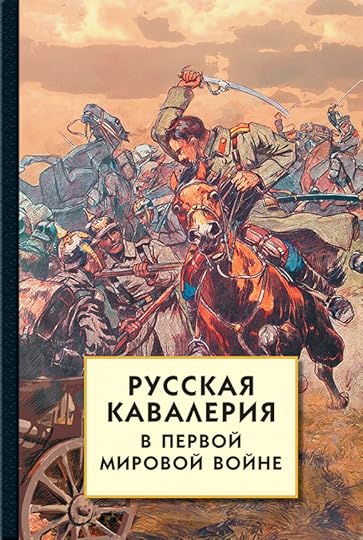
Русская кавалерия в Первой мировой войне
Издательство «АЙРИС-пресс»
ISBN 978-5-8112-5695-2
Сейчас набирается еще один том (казачий), но поскольку первоначальным замыслам (три кавалерийских тома) не дано осуществиться, а гвардейская кавалерия с казаками в один том не умещается, в него решено было включить и воспоминания казачьих пластунов и артиллеристов (сюда же войдут еще мемуары о Кавказской туземной конной дивизии). Но это и всё; есть крайне малая вероятность публикации тома о технических войсках и артиллерии (руководство — из технарей питает к ним некоторую слабость) — если будет продаваться кавалерия (а она по нынешним обстоятельствам будет продаваться плохо). Некоторые воспоминания офицеров разных родов войск войдут в планируемый трехтомник по 1917 году (общеполитический, но в каждом томе предусмотрены разделы о событиях на фронте), который издательство «к юбилею» рассчитывает продать (и которым мне предстоит заниматься). А «Кавалерия», оформленная в фирменном айрисовском стиле, выглядит так:
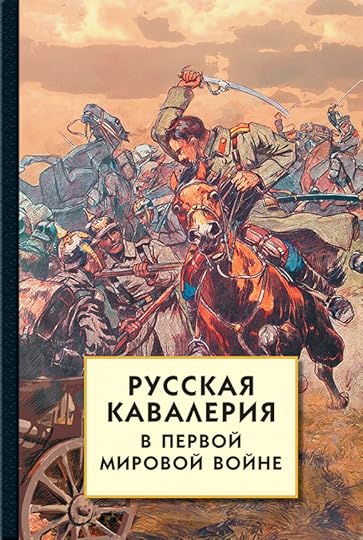
Русская кавалерия в Первой мировой войне
Издательство «АЙРИС-пресс»
ISBN 978-5-8112-5695-2
Published on November 24, 2015 09:58
November 16, 2015
В плену абстракций
Последние события, как погляжу, вызвали новый прилив рассуждений о «международном терроризме». Как будто есть такое сообщество людей, которым почему-то доставляет удовольствие совершать теракты (ну вроде как пироманы какие), и вот именно это их объединяет и противопоставляет «добрым людям». (Видел даже рекомендации для народа «как распознать террориста», что столь же проблематично, как распознать, скажем, в штатском танкиста или артиллериста, не говоря о том, что Брейвик не похож на левака из «красных бригад», а последний – на исламского шахида). Суть нынешнего-то дела при этом большинству заклинателей «международного терроризма» вполне ясна (тем более, что совершенно конкретна), но говорить о ней в силу пресловутой «политкорректности» нельзя, почему и приходится прибегать к подобным нелепым абстракциям.
Довольно забавно, кстати, что «политкорректность» и «толерантность» считаются порождением и свойством либерализма, тогда как они его идее антагонистичны: что может быть большим надругательством над свободой слова и самой мысли, чем запрет называть вещи своими настоящими именами и выражать неприятие того, что неприятно? Подобные запреты имманентно присущи как раз идеократическим тоталитарным режимам - этим был родной Совок и к тому же эволюционируют многие евространы.
На самом деле никаких абстрактных террористов нет, а есть люди вполне конкретных убеждений, которые в силу обстоятельств (за неимением возможности использовать авиацию, танки т.д.) применяют именно это средство борьбы. Но поскольку на целях, ради которых они действуют, сосредоточиваться не принято (надо признавать наличие проблемы, которой «быть не должно»), остается концентрировать внимание на методах. Что выглядит довольно смешно, поскольку эти самые методы в случаях «справедливой борьбы народов» никаких возражений не вызывают. В РФ вот существует «День партизана и подпольщика», при том что именно партизан и подпольщиков на Северном Кавказе периодически приходится отлавливать и ликвидировать.
То, что «террористами» везде и всегда называются только лица и группировки, действующие против интересов данного субъекта, а действующие в его интересах суть «борцы» («за свободу», «против угнетения» и т.д.) – это (коль скоро приходится жить в условиях «политкорректности» и изъясняться ее языком) совершенно нормально (если те же игиловцы, перенеся свою деятельность на Кавказ или в Поволжье, превратятся в «борцов», никто не удивится). Конечно, проще было бы вместо глупостей о «международном терроризме» констатировать, что в 90-х РФ вела борьбу с чеченским сепаратизмом и не обижаться столь смехотворно, что в Киеве называют террористами восставших против украинизации (да, в своей стране сепаратизм пресекают, во враждебных – поддерживают, никто иначе и не поступает), но раз нельзя, то нельзя.
Это-то ладно. Но занятно, что в Сирии-Ираке речь идет о «террористах» и тогда, когда даже в смысле методов никаких «партизан-подпольщиков» нет, а борьба за ту же самую идею ведется вполне «регулярными» средствами, пушками и танками с более-менее сплошной линией фронта, которую десятки тысяч вполне организованных людей удерживают против регулярных армий, и сам уже состоявшийся Халифат упорно именуется не государством (пусть безусловно заслуживающим уничтожения), а «терр. организацией», тогда как системно он никак не отличается от других самоинициированных государств типа Эритреи или Южного Судана (все такие были обязаны существованием какой-то «организации»).
Те, кого ныне именуют «международными террористами», объединены вовсе не целью непременно кого-нибудь убить. Речь идет о некоторой идее, обсуждать которую считается неэтичным. Люди хотят жить по шариату, а то, что им в светских государствах разрешают исповедовать свою религию, но жить заставляют по законам, от шариата далеким, их не устраивает. Более того, они хотят, чтобы и другие тоже жили по шариату (а как иначе, если их вера единственно правильная). И, коль скоро, не убивая, заставить жить по шариату нельзя, тем, кому это не нравится, разумнее определиться с отношением к самой идее, а не делать вид, что ее адепты убивают просто потому, что им нравится убивать.
Тем более, что градус «радикализма» - вещь относительная (устраненные от власти в Египте «братья-мусульмане» не более радикальны, чем партия Эрдогана, а то, что у нас называется «радикальным исламом», в той же Саудовской Аравии составляет государственную идеологию). Неудивительно, что при опросе в СА 92% населения сочли, что ИГИЛ защищает ценности истинного ислама и борется за правое дело (вот разве что многочисленные саудовские принцы в Халифате совершенно излишни). Принято осуждать разрушение буддийских статуй в Афганистане или древних городов в Сирии и Ираке, но в Иране (где, подобно тому, как в РФ живут не русские, а советские, живут не персы, а шииты) Бехистунскую надпись постигла та же участь и совершенно нормально представление, что надписи на древних языках суть следы когтей дьявола.
Дело-то не в «терроризме», а с одной стороны, в стремлении продвинуть конкретную цель (будь исламистов большинство – они бы просто «по хорошему» проголосовали, а так приходится «по плохому»), с другой – готовности либо в той или иной степени принять ее или - препятствовать ей. В Европе многие склонны идти по первому пути, согласны уж и кресты с церквей снять, и еду нехаляльную не продавать, вот-вот мультфильм про свинку Пеппу запретят, но все оказывается недостаточным.
На этот счет есть вообще-то замечательная логика, сводящаяся к тому, что для того, чтобы избежать потрясений, производимых плохими людьми, надо то же самое сделать самим без потрясений (напр., не раз приходилось слышать: во избежание революции власти самой следовало осуществить революционные проекты), т.е. допущение таких уступок, которые обессмысливают само существование данного порядка, многим вовсе не кажется ни нелепым, ни невозможным. Логика вполне безупречная: раз война есть худшее из зол, то, чтобы ее избежать – надо сдаться.
Ну что, интересно будет посмотреть, как далеко пойдут руководствующиеся этой логикой и как долго будет удаваться прятать голову в песок тем, кто ею руководствоваться не склонен. А наблюдать, как разглагольствуют о едином «международном терроризме» стороны, натравливающие друг на друга те или иные разновидности «просто терроризма» – этого удовольствия никогда не убудет, но оно уже приелось.
Довольно забавно, кстати, что «политкорректность» и «толерантность» считаются порождением и свойством либерализма, тогда как они его идее антагонистичны: что может быть большим надругательством над свободой слова и самой мысли, чем запрет называть вещи своими настоящими именами и выражать неприятие того, что неприятно? Подобные запреты имманентно присущи как раз идеократическим тоталитарным режимам - этим был родной Совок и к тому же эволюционируют многие евространы.
На самом деле никаких абстрактных террористов нет, а есть люди вполне конкретных убеждений, которые в силу обстоятельств (за неимением возможности использовать авиацию, танки т.д.) применяют именно это средство борьбы. Но поскольку на целях, ради которых они действуют, сосредоточиваться не принято (надо признавать наличие проблемы, которой «быть не должно»), остается концентрировать внимание на методах. Что выглядит довольно смешно, поскольку эти самые методы в случаях «справедливой борьбы народов» никаких возражений не вызывают. В РФ вот существует «День партизана и подпольщика», при том что именно партизан и подпольщиков на Северном Кавказе периодически приходится отлавливать и ликвидировать.
То, что «террористами» везде и всегда называются только лица и группировки, действующие против интересов данного субъекта, а действующие в его интересах суть «борцы» («за свободу», «против угнетения» и т.д.) – это (коль скоро приходится жить в условиях «политкорректности» и изъясняться ее языком) совершенно нормально (если те же игиловцы, перенеся свою деятельность на Кавказ или в Поволжье, превратятся в «борцов», никто не удивится). Конечно, проще было бы вместо глупостей о «международном терроризме» констатировать, что в 90-х РФ вела борьбу с чеченским сепаратизмом и не обижаться столь смехотворно, что в Киеве называют террористами восставших против украинизации (да, в своей стране сепаратизм пресекают, во враждебных – поддерживают, никто иначе и не поступает), но раз нельзя, то нельзя.
Это-то ладно. Но занятно, что в Сирии-Ираке речь идет о «террористах» и тогда, когда даже в смысле методов никаких «партизан-подпольщиков» нет, а борьба за ту же самую идею ведется вполне «регулярными» средствами, пушками и танками с более-менее сплошной линией фронта, которую десятки тысяч вполне организованных людей удерживают против регулярных армий, и сам уже состоявшийся Халифат упорно именуется не государством (пусть безусловно заслуживающим уничтожения), а «терр. организацией», тогда как системно он никак не отличается от других самоинициированных государств типа Эритреи или Южного Судана (все такие были обязаны существованием какой-то «организации»).
Те, кого ныне именуют «международными террористами», объединены вовсе не целью непременно кого-нибудь убить. Речь идет о некоторой идее, обсуждать которую считается неэтичным. Люди хотят жить по шариату, а то, что им в светских государствах разрешают исповедовать свою религию, но жить заставляют по законам, от шариата далеким, их не устраивает. Более того, они хотят, чтобы и другие тоже жили по шариату (а как иначе, если их вера единственно правильная). И, коль скоро, не убивая, заставить жить по шариату нельзя, тем, кому это не нравится, разумнее определиться с отношением к самой идее, а не делать вид, что ее адепты убивают просто потому, что им нравится убивать.
Тем более, что градус «радикализма» - вещь относительная (устраненные от власти в Египте «братья-мусульмане» не более радикальны, чем партия Эрдогана, а то, что у нас называется «радикальным исламом», в той же Саудовской Аравии составляет государственную идеологию). Неудивительно, что при опросе в СА 92% населения сочли, что ИГИЛ защищает ценности истинного ислама и борется за правое дело (вот разве что многочисленные саудовские принцы в Халифате совершенно излишни). Принято осуждать разрушение буддийских статуй в Афганистане или древних городов в Сирии и Ираке, но в Иране (где, подобно тому, как в РФ живут не русские, а советские, живут не персы, а шииты) Бехистунскую надпись постигла та же участь и совершенно нормально представление, что надписи на древних языках суть следы когтей дьявола.
Дело-то не в «терроризме», а с одной стороны, в стремлении продвинуть конкретную цель (будь исламистов большинство – они бы просто «по хорошему» проголосовали, а так приходится «по плохому»), с другой – готовности либо в той или иной степени принять ее или - препятствовать ей. В Европе многие склонны идти по первому пути, согласны уж и кресты с церквей снять, и еду нехаляльную не продавать, вот-вот мультфильм про свинку Пеппу запретят, но все оказывается недостаточным.
На этот счет есть вообще-то замечательная логика, сводящаяся к тому, что для того, чтобы избежать потрясений, производимых плохими людьми, надо то же самое сделать самим без потрясений (напр., не раз приходилось слышать: во избежание революции власти самой следовало осуществить революционные проекты), т.е. допущение таких уступок, которые обессмысливают само существование данного порядка, многим вовсе не кажется ни нелепым, ни невозможным. Логика вполне безупречная: раз война есть худшее из зол, то, чтобы ее избежать – надо сдаться.
Ну что, интересно будет посмотреть, как далеко пойдут руководствующиеся этой логикой и как долго будет удаваться прятать голову в песок тем, кто ею руководствоваться не склонен. А наблюдать, как разглагольствуют о едином «международном терроризме» стороны, натравливающие друг на друга те или иные разновидности «просто терроризма» – этого удовольствия никогда не убудет, но оно уже приелось.
Published on November 16, 2015 05:56
Сергей Владимирович Волков's Blog
- Сергей Владимирович Волков's profile
- 4 followers
Сергей Владимирович Волков isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



