Max Nemtsov's Blog, page 343
December 4, 2014
Famous Blue Raincoat
ну и хватит, пожалуй, на сегодня
Леонард Коэн
Знаменитый синий плащ
Четыре утра, на исходе декабрь. Ну как тебе там? Уже лучше? Пора бы. Нью-Йорк замерзает, но я здесь навечно — и музыка на Клинтон-стрит целый вечер. Я слышал, ты строишь свой маленький дом где-то в пустыне. Тебе незачем жить, я надеюсь, ты помнишь хоть что-то доныне. Кстати, Джейн зашла медальон показать — свой локон решил ты ей дать той ночью, когда просветлел. Ты и впрямь просветлел?
А в последний раз ты таким старым был с виду: порвался по шву синий плащ знаменитый. На станции ждал, каждый поезд встречая, без Лили Марлен вновь домой возвращался. Моя женщина стала прядью жизни твоей. Вернулась она — но вернулась ничьей. Как в ночи цыган, ты примчал на конях с бледной розой в зубах. Джейн, я вижу, не спит. Она шлет привет.
И что мне сказать тебе, брат мой, палач мой, — что еще можно сказать? Тебя не хватает, и я благодарен — ты смог на пути моем встать. Если ты к нам заглянешь — к Джейн или ко мне, — что ж, твой враг тихо дремлет, иди смело к жене. И еще: из ее глаз исчезла беда, а я думал, что она не уйдет никогда.
Вот Джейн зашла медальон показать. Ты локон решил ей отдать, когда уходил навсегда.
Всегда твой, Л. Коэн
ЛК в своем интервью «Би-би-си» 8 июля 1994 г. так вспоминает о создании этой песни: «Проблема с ней в том, что я забыл тот треугольник, который существовал в действительности. Мой ли он — разумеется, я всегда ощущал, что присутствует некий невидимый мужчина, соблазняющий женщину, которая сейчас со мной, — так вот, был ли он инкарнированным или просто воображаемым, я не помню. Я всегда ощущал, что либо я выступал такой фигурой по отношению к какой-то другой паре, или существовала такая фигура по отношению к моему собственному браку. Я не очень хорошо это помню, но ощущение, будто постоянно присутствует третья сторона, меня не оставляло — иногда я сам, иногда другой мужчина, иногда другая женщина. Этой песней я никогда не был полностью доволен. Дело не в том, что я противился импрессионистской манере письма, просто я никогда не чувствовал, что именно в этой песне я точно выразил стихами то, что нужно. Я готов уступить какую-то часть тайне, но в глубине души я всегда ощущал, что в этой песне остается что-то неясное. От некоторых образов в ней я очень счастлив, но большая часть… Мелодия, я думаю, хороша, и помню, как моя мама ее одобрила: я сыграл ей на кухне, и она, занимаясь чем-то другим, навострила уши и сказала: “А вот это хорошая мелодия…”» В 1995 г. ЛК писал: «Меня беспокоило, что я заставляю слушателя совершать определенные прыжки воображения, и до сих пор не знаю, вправе ли я был это делать».
Filed under: men@work

Мэттью Пёрл–Тень Эдгара По 10
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09
КНИГА III
Балтимора, 1851 г.
11
Умозаключение, сущ. Акт намеренного, исчисленного рассуждения с задействованием воображения и духовного начала; детальное наблюдение и предсказание сложностей действия человека, особенно — повторяющейся простоты подобных действий; не тождественно «исчислению» или «логике».
* * *
В начале я неослабно следил, дабы не допустить какой-либо ошибки, коя сбила бы Огюста Дюпона с пути умозаключений (приведенное выше — мое собственное определение, коим Уэбстер и прочие издатели могут воспользоваться с целью исправлений своих дефиниций; его я вывел в продолженье нашего трансатлантического вояжа, наблюдая за Дюпоном). Мне хотелось содействовать ему, не чиня препятствий. Оказалось же, что свою первую ошибку я совершил задолго до того, как мы принялись за дело.
На третье утро по прибытьи в Балтимору я сидел напротив Дюпона в моей библиотеке. Он расположился в самом удобном моем кресле. Я наблюдал аналитика в состояньи совершеннейшего ничегонеделанья. Слово «ничегонеделанье» создает, однако, превратное ощущение, ибо он всегда себя чем-либо занимал. Но усилия его были неспешны и покойны.
Дюпон прочел все газетные статьи о кончине Эдгара По, собранные мною. Кроме того, я передал ему иные материалы, касающиеся поэта: биографические заметки из журналов и альманахов, гравюры, как и мою личную переписку с автором. Дюпон читал газеты так же, как губернатор штата просматривал бы новости за завтраком, — стиснув край листа хозяйскою хваткой.
В тот день он приветствовал меня из противного угла комнаты кивком столь внезапным, что я уже наполовину ожидал его окончательного приговора касаемо кончины По.
— Мне будет потребно остальное, — сказал он.
— Да. — Я замялся. Мне казалось, я понимал, о чем он и в чем удивительным образом ошибается, но мне отнюдь не хотелось его обескураживать даже по видимости. — Мсье Дюпон, судя по капризам прессы, маловероятно, чтобы они печатали бы что-либо еще о кончине По.
Дюпон протянул мне мою памятную книжку и пристукнул пальцами по огромной папке с вырезками.
— Мсье Кларк, я требует не только сих статей — но сами газеты, из коих они были извлечены. И, быть может, все нумера сих газет за неделю до и после публикации статей.
— Но всякий раз, когда мне представлялась возможность, я тщательно изучал их в поисках малейших упоминаний о поэте в самых не относящихся к делу колонках, где могло называться одно лишь его имя. Уверяю вас, это все заметки, касающиеся По, что лишь возможно было отыскать.
— Остолоп! — вздохнул он.
Не зная его лично, полагаю, сие невозможно передать, однако я уже привык к частым восклицаньям Дюпона сего сорта, и мне они оскорбленьями не казались.
Дюпон меж тем продолжал:
— Вырезки — это еще не все, мсье. Из всего окружающего те или иные сведенья возможно выявить столько же, сколько из самих сведений. Пропустите колонки, заставляющие трепетать от возбужденья сердца читателей, — присмотритесь ко всему помимо них, и многое узнаете. Вы принесли в жертву огромную часть сведений из каждой статьи, отделив ее от газетной полосы.
* * *
Если говорить уж совсем по чести, трудно было удерживаться от нетерпенья, касаемого неспешности Дюпона. Полагаю, следовало учесть сие с самого начала. Эдгар По признавал законность требований разума столь изощренного. В историях его Ш. Огюст Дюпен предпринимает тщательнейшие обзоры газетных сообщений о соответствующих преступленьях прежде, чем осмеливается то или иное дело разрешить.
Однако в смысле требуемого времени между теми литературными историями и нашим предприятьем существовало различие: мы были не одни. В глубине рассудка моего неизменно стоял призрачный образ моего похитителя — Дюпена. (Оглядывая последнюю фразу, я понимаю, что не должен просто так писать «Дюпен», ибо машинально стану думать о Ш. Огюсте Дюпене из историй По. Хотя чернил на сие уйдет поболе, отныне это будет «Шарль Дюпен» либо «барон Дюпен».) По временам мне даже мнилось, будто я вижу его лицо — в открытом окне зданья, в толпе на улице Балтимор, и он мне хитро усмехается. Действительно ли барон отправился в Америку, или же извещенье его было уловкой, дабы смутить парижских кредиторов?
Я принялся собирать газеты, затребованные Дюпоном. Импозантное здание «Балтиморского Солнца» было первой железной конструкцией в городе. Хотя некоторые полагали сие пятиэтажное строение красивым, применить подобное определенье не представляется возможным. Внушительно — вот что вы первым делом думали, проходя по редакционным кабинетам; в подвале вращались прессы и паровые машины, нагревая подошвы ваших сапог; по потолку градом щелкал треск телеграфных устройств, размещенных этажом выше. Вы оказывались в круговерти какой-то мощи, востребуемой всею массой наших сограждан.
Посетив соперников «Солнца» — газеты вигов «Патриот» и «Американец», а также те, что склонялись в сторону демократов: «Клипер» и «Ежедневный Аргус», — я постепенно снабдил Дюпона всем, что ему в Балтиморе требовалось. После чего отправился в Атенеум в поисках прочих матерьялов из других штатов, а также — новых сообщений об Эдгаре По.
* * *
По своем возвращеньи я еще не отправил весточки ни Хэтти, ни Питеру. Наложенный теткой Блюм запрет Хэтти писать мне оставался в силе, пока я пребывал в Париже. Питер же в последних своих посланьях почти ни словом не поминал ни Хэтти, ни чего-либо, представляющего интерес, однако намекал на некие деликатные вопросы нашей с ним практики, о коих ему необходимо со мною побеседовать. У меня имелось сильное желанье пообщаться с ними обоими. Но возникало ощущение, будто весь мир за пределами моей увлеченности Дюпоном замер на месте; словно бы я оказался уловлен вселенною, состоящей только лишь из разума Дюпона и его идей, и не способен вернуться в привычные мне места, пока подлежащая мне цель не достигнута.
Хотя за границей я провел всего лишь три месяца, любая перемена, проистекшая за этот срок в Балтиморе, воспринималась обостренно. День ото дня город, мнилось, разрастался. Повсюду — груды мусора, лестницы, стропила и строительные инструменты. Старые особняки сменялись складами пяти этажей в вышину. И все новехонькое, будто строительная пыль, облекало город в тусклую бледность. Чувствовалось и нечто иное — не знаю, как назвать. Непокой. Бодрая норовистость. Вот каким казалось все, когда вы проходили по улице.
В читальном зале я разместился за столом со своею памятною книжкой и раскрыл газету. Я пробегал взглядом колонки, несколько раз останавливался перечитать какое-либо интересное известие о том, что произошло в продолженье моего отсутствия. И тут — увидел. Сердце мое встрепенулось от — изумления, возбуждения, страха. Я не мог в точности сказать, чего именно. Я схватил другую газету, потом еще одну. Нет. Упоминанья были повсюду! Во всякой газете печаталось что-либо о кончине Эдгара По! В таинственных обстоятельствах смерти поэта еще предстоит выяснить множество подробностей, писал «Клипер». «Выдающаяся тема разговоров в литературных кругах уже некоторое время — кончина этого меланхолика Эдгара А. По, — сообщал один еженедельный долларовый журнальчик. — Он целиком и полностью был существом странным и жутким».
Газеты не предоставляли почти никаких фактических подробностей. Вместо них всякая страница, точно мальчишка-газетчик, голосила ad infinitum о каком-то сенсационном повешеньи, не излагая, что именно к нему привело.
Я кинулся к конторке, за коей восседал престарелый служитель. Перед нею топтался другой читатель, но к служителю он пока не обращался, и я решил, что вправе сделать это первым.
— Что все это такое касаемо Эдгара По? Как сие могло произойти? — вопросил я.
— Господин Кларк, — отвечал служитель с видом крайне заинтересованным. — Давненько вы у нас не появлялись!
— Любезный сударь мой, да всего, почитайте, несколько месяцев тому, — сказал я, — и помыслить нельзя было о такой заботе касательно кончины Эдгара По. Теперь же она — тема колонок в любой газете.
Служитель, похоже, собрался уже было ответить, когда нас прервали.
— Да, да!
Мы оба повернулись к другому читателю, чье место у конторки я занял. То был дородный мужчина с жесткими кустистыми бровями. Прежде чем продолжить, он прочистил крупный нос, дунув в носовой платок.
— Я тоже о сем читал, — сказал он сообщническим тоном, подталкивая меня в бок, словно бы мы делились понюшкой из одной табакерки.
Я вяло глянул на него.
— О смерти По! — пояснил он. — Чудесно, не так ли?
Я присмотрелся к незнакомцу.
— Чудесно?
— Разумеется, — с подозрением ответил он, — вы полагаете По гением, сударь?
— В высочайшей степени!
— И, разумеется, вы считаете, что лучше прозы и написано не было на свете, нежели «Золотой жук»?
— Лучше него лишь «Низвержение в Мальстрём», — ответил я.
— Ну, стало быть, чудесно, не так ли, что ныне она получает, наконец, должное вниманье со стороны газетных редакторов? Печальная и горестная кончина По, я хотел сказать. — И, выходя из читального зала, он коснулся полей цилиндра, прощаясь со служителем.
— Итак, вы говорите… что привлекло ваше внимание? — осведомился у меня тот.
— Газеты — почему… — Мысли мои отвлеклись воспоминаньем о том, что мгновенье назад сказал другой человек. Я указал на дверь: — Кто был тот господин, что стоял здесь прежде и только что откланялся?
Сего служитель не знал. Я извинился и поспешил на угол улицы Саратога, но незнакомца и след простыл.
* * *
Меня так поразили совместные явленья — газеты, странный поклонник По, беспокойство, словно бы овладевшее городом, — что я сперва не обратил особого внимания на женщину, пухлощекую и седую, что сидела на скамье неподалеку от Атенеума. Она читала книгу — книгу Эдгара А. По! Вот теперь, должен сказать, я полностью владел уникальным преимуществом наблюдательности. Приобретши все до единого опубликованные тома работ По, я мог издали узнать различные изданья по малым свойствам их внешнего вида, размеру и гравюрам, для каждого особенным. Смею думать, похвальба моя умаляется тем фактом, что подобных собраний было немного. Те, что были изданы, Эдгару По не нравились. «Издатели — прощелыги, — жаловался он в письме ко мне. — Ежели вами помыкают, вы разорены. Я твердо намерен быть издателем себе самому». Хотя сему не суждено было случиться — его собственные средства пребывали в разоре, а периодические изданья оставались весьма скаредны касаемо сумм, кои соглашались платить за его работы.
Я остановился подле скамьи и наблюдал, как она пальцем переворачивает испятнанные и обтрепанные листы. Меня она не замечала, так увлекли ее последние страницы истории — потрясающий душу крах «Падения дома Ашеров». Не успел я ничего осознать, как женщина с глубоким удовлетвореньем захлопнула книгу и поспешила прочь, будто стремилась избегнуть обломков рушащегося дома Ашеров.
Я решил поинтересоваться у ближайшего книготорговца, не следит ли он за вновьразвернувшейся общественной дискуссией касательно По. То был такой торговец, кой с меньшею вероятностью станет заполнять полки свои сигарными коробками либо портретами индейцев — чем угодно, кроме книг, ибо такова была всевозрастающая склонность подобных заведений, поскольку все больше людей книги приобретало посредством подписки. Я задержался в прихожей книготорговца, заметив в лавке еще одну женщину — и особа сия свершала крайне причудливое преступленье.
Она стояла на лавочной лесенке, используемой для осмотра самых верхних полок. Преступленье же, если его можно определить как оное, состояло отнюдь не в краже книги, что само по себе было б достойно упоминанья и довольно странно, но в помещении на полку книги, извлеченной из складок ее накидки. После чего женщина передвинулась ступенькой выше и добавила к ассортименту лавочных книг еще одну, извлеченную сходным манером оттуда же. Наблюденью моему за нею мешали косые лучи солнца, падавшие сквозь широкий световой люк в потолке, но я видел, что одета она в дорогое платье и шляпку; явно не из числа кричаще выряженных бабочек, коих можно зреть на прогулках по улице Балтимор. Шея ее давала понять, что кожа у нее золотистая, — как и полоска на плече, не прикрытая перчаткой. Женщина спустилась по лесенке и свернула в проход между стеллажами. Я двинулся параллельно ей по проходу рядом и обнаружил, что она поджидает меня в его конце.
— А мужчине, — произнесла она по-французски, и пересеченные шрамом губки ее надулись, — пялиться невежливо.
* * *
— Бонжур! — Передо мною стояла моя былая поимщица из парижской крепости, соотечественница барона Дюпена. — Мои извинения — изволите ли видеть, я иногда подвержен приступам, гляжу словно бы в некоей прострации. — Но то отнюдь не было приступом. Ее сокрушительная красота бросилась мне в глаза при первом же взгляде, и зрачки мои забегали по сторонам, чтобы только разрушить ее чары. Взяв себя в руки, я прошептал: — Но что же, заклинаю вас, вы здесь делали?
Она улыбнулась, словно ответ был самоочевиден.
Я поднялся на несколько ступеней и достиг того места, где стояла она, после чего извлек книгу, кою она поставила на полку. То было издание рассказов По.
— Противно моему обычаю. Класть ценные вещи на место. — И она рассмеялась, по-детски обрадовавшись такой мысли. Улыбаясь, она становилась похожею на маленькую девочку, в особенности — нынче, когда волосы ее были обрезаны короче.
— Ценные? Они ценны лишь для читателей, способных оценить По! — ответил я. — И к чему ставить их так высоко, где их будет сложнее найти?
— Людям нравится к чему-нибудь тянуться, мсье Квентин, — сказала она.
— Вы совершили это по указке барона Дюпена. Где он?
— Он начал работу над разрешеньем смерти По, — ответила Бонжур. — И завершится она триумфально.
В голове моей стучало.
— Ему нет касательства до сего дела! Ему вообще здесь делать нечего!
— Считайте удачным случаем, — загадочно отвечала она.
— Я не считаю удачным его вмешательство в этот серьезный вопрос ради его собственного развлеченья.
— И все же он нашел себе занятье полезнее убийства вас.
— Убийства меня? Ха! — Я пытался говорить надменно. — Зачем ему?
— В письмах своих барону Дюпену вы много рассказывали о крайней насущности помощи в распутывании обстоятельств кончины вашего любимого господина По. «Величайшего гения, известного американским литературным журналам, скорбь по коему будет бесконечна и вечна» — и тому подобное. — То было вполне точное изложение моих сантиментов. — Вообразите же себе удивленье барона, когда мы сколько-то недель назад оказались в Балтиморе. Никаких дам, рыдающих на улицах, скорбя по бедному По. Никаких бунтовщиков, требующих справедливости для поэта. Очень немногие из найденных нами вообще в точности представляли себе, кто такой этот Эдгар По, за исключением того, что он сочинял какие-то странные низкопробные фантазии. Да и большинство, сказать по правде, понятия не имело, что мсье По вообще отправился на тот свет.
— Это правда, — с вызовом отвечал я. — Есть многие, мадмуазель, кто встречает гения ревностью и безразличьем, а особенность По делала его наипаче сему подверженным. И что?
— Барон Дюпен сюда приехал, дабы удовлетворить потребность в понимании того, как умер По. А никакой потребности здесь вовсе не обнаружено!
Я молчал. Полагаю, оспаривать разочарованье барона я бы не смог, ибо испытывал то же самое.
— Он винит меня, — пробормотал я.
— Что ж, не стоит воображать, будто хозяин мой будет к вам снисходителен. Вообще-то, осознав, что мы приехали в такую даль без цели и понесли при том такие расходы, барон рассвирепел очень быстро.
Сдается мне, здесь я выказал опасенье, поскольку девушка улыбнулась.
— Бояться нечего, мсье Квентин, — сказала она. Но от улыбки ее мне спокойнее не стало. Быть может, все дело было в шраме, рассекавшем ее рот надвое. — Мне кажется, на вас никакая тень вреда не падает — пока. Вы, без сомненья, сами видели, что с того времени произошло в вашем городе касаемо отношенья к Эдгару По.
— Вы имеете в виду газеты? — У меня в голове что-то начало складываться. — Вы имеете ко всему этому какое-то отношение?
Она объяснила. Сперва барон поместил извещенья во всех городских газетах — он предлагал значительное вознаграждение за любые «жизненно важные сведения» о «таинственной и недостойной кончине» поэта По. На мгновенное явление свидетелей он и не рассчитывал. Извещенья сии более служили истинной своей цели — возбудить вопросы. Газетные редакторы почуяли возбужденье и двинулись на запах. Теперь публика требовала все больше и больше По.
— Мы помогаем оживить общественное воображенье, — сказала Бонжур. — Я уверена, сбыт его книг теперь улучшился.
Я припомнил женщину в парке… поклонника По в читальном зале… и вот теперь Бонжур подбрасывала книги на полки, дабы найти их смогло больше людей.
Она поворотилась к дверям, и я кинулся удержать ее. Если бы за нами кто наблюдал — как моя рука обвилась вкруг ее запястья, облеченного перчаткою, — сие стало бы поводом для небольшого скандала и с телеграфною скоростью долетело бы до тетки Хэтти Блюм. В Балтиморе холодные ветра Севера встречались с жестким этикетом Юга, а заодно — и с сопутствующими ему сплетнями.
Потянуться к ее руке меня понудил двусторонний порыв. Во-первых, я оказался еще раз плененным ее бесшабашною красотою, столь поразительно перенесенною в Балтимору, столь отличною от привычной внешности местных девушек, навеянной иллюстрациями в дамских журналах. Во-вторых, она уже могла что-то знать о кончине По. В-третьих — ибо, полагаю я, порыв мой все же следует именовать трехсторонним, — я знал, что в тех местах, откуда она приехала, в Париже, тронуть даму за руку вовсе не считается деянием сколь-нибудь заметным, и сие придало мне дерзости. Но глаза ее вспыхнули, и я вмиг руку отдернул.
Мне трудно описать то ощущенье, кое пробило меня по прикосновеньи — даже на миг — к сей даме. Я словно бы мог перенестись куда угодно на свете, в чью угодно жизнь, тело мое меня словно бы долее не стесняло — то было ощущенье духовное в некоем смысле, чувство столь же легкое, сколь звезда небесная.
К вящему моему изумленью, там же, среди книжных стеллажей, едва я отпустил ее, обе руки Бонжур взметнулись ко мне и схватили меня гораздо крепче, нежели я держал ее. Я не умел оторвать ее пальцы от своих рук, и какой-то долгий миг мы стояли друг к другу лицом.
— Сударь! Будьте так любезны, уберите свою руку! — выкрикнула она в праведном негодованьи непорочности.
Крик ее возбудил аргусоглазую любознательность всех в книжной лавке — за каждым столом и на каждой скамье. Едва она выпустила меня из своей цепкой хватки, я предпринял попытку выглядеть так, словно меня привлекло нечто обыденное в расположенных близ меня книгах. Когда же любопытные взгляды рассеялись, Бонжур исчезла. Я выскочил на улицу и заметил ее — теперь ее голову сзади прикрывала полосатый парасоль.
— Постойте! — окликнул я девушку, спеша ей вдогон. — Я знаю, что намеренья у вас самые благие. Вы не позволили пристрелить меня в тех фортификациях. Вы спасли мне жизнь!
— Сдается мне, вы желали мне помочь, полагая, будто барон понудил меня к услуженью ему. Сие, — мелкими зубками она закусила нижнюю губу, обдумывая то, что намеревалась сказать, — необычно.
— Вы должны осознавать, что дело сие слишком животрепещуще, чтобы зазря возбуждать периодическую печать. Ничего путного из сего не выйдет. Гений По заслуживает большего. Вы должны сие немедленно прекратить.
— Вы полагаете, будто можете эдак легко сбить нас с цели? Я читала кое-что из вашего приятеля По. Похоже, писанина его по преимуществу состоит из банальностей, произносимых так, что их становится трудно понять, а также пошлости, коей придан вид настолько таинственный, что звучит она пророчеством. — Бонжур внезапно остановилась и глянула на меня. Я тоже замер. — Вы влюблены, мсье Кларк?
Мое сосредоточенье на девушке рассеялось. Я повел взглядом окрест — по тротуару шла женщина. Лет сорока, вполне привлекательная. Глаза мои следили за нею, пока она удалялась вдоль по улице.
— Вы влюблены, мсье? — мягко повторила Бонжур, следуя взором своим за предметом моего вниманья.
— Та женщина… Я видел ее с Нильсоном По, кузеном Эдгара, изволите ли видеть, и она поразительно схожа с…
Я вовсе не собирался всего этого выпаливать.
— Да? — сказала Бонжур. Мягкость ее голоса побудила меня докончить фразу.
— Поразительно схожа с портретом, который я видел, — Виргинии По, его покойной супруги. — Истина же была в том, что даже от лицезренья сей женщины я ощущал, будто касаюсь жизни Эдгара По.
Вскорости она пропала из виду, сокрывшись в толпе. И тут я обратил вниманье, что Бонжур более не стоит подле меня. Оглянувшись, я увидел, что она уже приближается к женщине — к этой копии Виргинии По! — и разъярился на себя за то, что открыл девушке то, что я ей открыл.
— Сударыня! — окликнула ее Бонжур. — Сударыня!
Женщина повернулась и глянула на Бонжур. Я не приближался, не будучи уверенным, что женщина заметила меня у околотка, но желая вместе с тем себя обезопасить.
— Ох, простите! — молвила Бонжур с убедительным южным говорком, кой, должно быть, подхватила в городе у какой-нибудь красавицы. И продолжила: — Вы так похожи на одну даму, с которой мы некогда водили знакомство, — но я ошиблась. Должно быть, из-за этой милой шляпки… — Женщина любезно улыбнулась и уже начала было поворачиваться к Бонжур спиной. — Но она просто вылитая Виргиния! — Это Бонжур произнесла будто бы самой себе.
Женщина вновь оборотилась к ней.
— Виргиния? — с любопытством осведомилась она.
Я заметил, как лицо Бонжур вспыхнуло удовольствием — она поняла, что достигла своей цели.
— Виргиния По, — пояснила Бонжур, весьма посерьезнев.
— Понимаю, — тихо ответила женщина.
— Я встречалась с нею лишь однажды, но водам Летейским ни за что не смыть ее из моей памяти, — выпалила Бонжур. — Вы так же прекрасны, как она!
От комплимента женщина опустила очи долу.
— Я — госпожа Нильсон По, — сказала она. — Джозефина. Боюсь, никто и никогда уже не сможет быть прекраснее моей дорогой сестры, какой она была при жизни.
— Вашей сестры, мадам?
— Да, Сестрицы. Виргинии По. Она была мне сводной сестрой. Даже в слабости своей она была воплощеньем мужества и уверенности. Как гляну на ее портрет… — Женщина умолкла, не в силах завершить мысль.
Так вот в чем дело! Нильсон женат на сестре покойной жены Эдгара По. Обменявшись несколькими фразами соболезнованья, женщины пошли дальше вместе, и Джозефина По тихонько отвечала на вопросы Бонжур о Сестрице. Я следовал за ними, прислушиваясь.
— Однажды вечером, когда они с Эдгаром счастливо проживали в Филадельфии на улице Коутс, милая моя Сестрица пела за своим любимым фортепьяно, и у нее порвался кровеносный сосудик. Она рухнула без чувств, не допев. С часу на час ожидали, что она отойдет. Особенно боялся Эдгар. Той зимою, когда она скончалась, их так одолела нищета, что в дурно отапливаемых комнатах согреть ее могла только его шинель, а на груди ее лежала кошечка, выпиленная из черепахового панциря.
— Что же сталось после этого с ее супругом?
— С Эдгаром? Метанья меж надеждой и отчаяньем, что длились столько лет, я полагаю, окончательно свели его с ума. Ему требовалась женская преданность. Он говорил, что и года не проживет без истинной и нежной любви. Люди утверждают, будто он несколько раз пускался на поиски жены по всей стране после кончины Сестрицы, но я-то верю, что сердцем он прикипел только к ней. Лишь за несколько недель до своей смерти он обручился вновь.
Женщины обменялись еще несколькими словами, и Джозефина обходительно откланялась. Бонжур вновь повернулась ко мне с девическим смешком.
— Вам, должно быть, очень жаль, мсье Кларк, что в одной из наших интриг вы — не на стороне барона. Вот видите — мы не прячемся в тенях, не застреваем на мелочах.
— Мадмуазель, прошу вас! Здесь, в Балтиморе, в Америке, вам вовсе не обязательно поддерживать связь с бароном и его кознями! Я бы на вашем месте бежал его немедля. Здесь нет никаких уз.
Глаза ее заинтересованно распахнулись:
— Разве здесь нет рабства?
Умна, умна.
— И впрямь! — отвечал я. — Никаких уз не существует для свободной француженки. Вы ничем не обязаны барону.
— Я ничем не обязана собственному мужу? — переспросила она. — Полезно сего не забывать.
— Барон… ваш муж?
— Мы с ним теперь взялись за сие дело всерьез, и нас уж не остановить. На вашем месте, мсье Кларк, я бы не путалась под ногами.
* * *
Куда бы ни отправились вы странствовать по свету, наверняка в любом краю отыщете вы все то же ограниченное число пород законников — подобно натуралисту, везде находящему свои травы и сорняки. Первая разновидность их расценивает хитросплетенья норм права как основательные и неколебимые идолы для поклоненья. Но есть иная порода поверенных — плотоядные, для коих первый сорт всего лишь добыча, а нормы права — кардинальные барьеры на пути к успеху.
Барон Шарль Дюпен был настолько хорошим образчиком сей последней категории, что скелет его следовало бы вывесить в Тюильриском Кабинете сравнительной анатомии. Юридические кодексы служили ему оружьем, кое он употреблял для ведения битв; они были его пистолетами и кинжалами, и ничего святее их не существовало. Когда барону к собственной выгоде требовалась заминка, он, как было широко известно, не поступался даже тем, что завершал консультацию или даже процесс, ускользая от визави через окно передней. Когда же таких зловещих методов не хватало, барон Дюпен применял действительные пистолеты и кинжалы — пользуясь услугами целого сообщества негодяев для добычи сведений или требуемого признанья. Барон был юристом, да, но не это в нем было наиважнейшим; в первую голову он выступал прирожденным импресарио, кой только работал юристом. Балаганщик трибуны, барышник закона.
Однажды во время нашего трансатлантического вояжа Дюпон рассказал мне историю Бонжур, хотя о замужестве ее упомянуть пренебрег. Во Франции, объяснил Дюпон, существует такой тип преступника, который известен под именем «бонжурье», и метод его действий сводится вот к чему: в модном облаченьи дамы или господина вор проникает в дом, проходит мимо челяди, словно спешит на важное рандеву с хозяином, берет все ценные предметы, кои способен быстро схватить, после чего просто выходит на улицу. Но если между входом в дом и выходом из него такого жулика замечает слуга либо еще кто-то из домочадцев, человек этот кланяется, произносит «Бонжур!» и осведомляется о жильце соседнего дома, чье имя он предварительно выяснил. Разумеется, все полагают, будто он либо она просто ошиблись дверью, посему их направляют по нужному адресу без подозрений и со множеством похищенных ценностей, кои им удалось собрать. Молодая женщина, стоявшая предо мной средь крепостных стен, была лучшею «бонжурье» Парижа, благодаря чему и стала известна всем просто по имени Бонжур.
Говорили, что выросла она в далеком французском селе. Мать ее, швейцарка по рожденью, скончалась за несколько месяцев до того, как младенцу ее исполнился годик. Ее отец-француз, прилежный пекарь, о дочери заботился. По вечерам, однако, он беспрестанно рыдал, и девочку вскоре утомила его неизменная скорбь. Сие, в совокупности с отсутствием материнской ласки, и выковало из девочки особу яростно независимую, как подобает настоящему французу. Вскоре отца ее в хаосе одной из мелких революций, охвативших тогда всю страну, арестовали прямо у нее на глазах и куда-то увезли. Она сама добралась до Парижа и стала жить там одна, а существовать ей удавалось исключительно благодаря собственному уму и физической силе. Она стала юной воровкой, и много раз на нее нападали; одна из подобных атак и завершилась видным шрамом, обезобразившим лицо.
— Но почему ж такая красивая женщина не оставит свое ремесло обычной воровки? — спросил я у Дюпона однажды вечером, когда мы сидели за длинным обеденным столом парохода.
Дюпон воздел моему вопросу бровь и, похоже, задумался, не оставить ли его без ответа.
— Фактически, она его уже оставила, да и обычной ее назвать едва ли возможно. Много лет она была наемной убивицей — причем, изощреннейшего свойства. Говорят, что в силу прежних навыков она и в роли убивицы по привычке говорила «бонжур», прежде чем нож ее вспарывал горло жертвы. Однако сие — просто умозрительное построенье, ибо никто из живых подтвердить его не может.
— Однако она была достаточно женственна и храбра со мною в фортификациях, — возразил я. — Полагаю, такие недостатки характера создаются в женщинах дурным здоровьем и самою средой.
— Она в те годы была крайне бедна, — подтвердил Дюпон.
Одною зимой случилось так, что Бонжур, задержанной парижской полицией после неудавшегося ограбленья, кое завершилось трупом благородного господина, оставшимся в его собственной гостиной, пригрозили смертною казнью, дабы девушка послужила наглядным уроком растущему племени воровок. Барон Дюпен на пике своей славы представлял ее в суде с ошеломляющим рвеньем. Умело продемонстрировал он, что Бонжур, существо нежное и ангельское, попросту пала ошибочной жертвой парижской полиции, а сама внешность девушки, ее девическая хрупкость и миловидность немало добавили общему впечатленью, создавшемуся у наблюдателей.
Теперь, если принять во вниманье данный пример, вас наверняка уже не станет мучить вопрос, как именно барон набрал свою армию верных негодяев. Освободившись из тюрьмы, как сего ему удалось добиться для Бонжур, они почитали за честь хранить ему верность. Можете решить, будто в сем заключается противоречие, однако всем людям для жизни потребны некие правила, а преступники могут себе позволить их не так уж много, верность же есть то, что они чтят. Барон прежде уже был женат, но, как утверждают, женщины в его жизни руководствовались различными мотивами — от простой любви до, как это случилось с ним один раз, тяги к его неимоверному богатству. Остается лишь догадываться, примешивалась ли к верности Бонжур также и любовь, или же одно вытеснило другое, либо они смешались воедино в некоей бессердечной комбинации.
Ноа Уэбстер (1758—1843) — американский лексикограф, создатель лучшего большого толкового словаря английского языка. Автор школьных учебников по орфографии и грамматике, реформатор орфографии американского варианта английского языка.
«Baltimore Sun» — ежедневная утренняя газета, основана в 1837 г.
До бесконечности (лат.).
«The Fall of the House of Usher» был впервые опубликован в «Журнале Бёртона для благородных господ» в сентябре 1839 г. и после радикальной редактуры перепечатан в «Гротесках и арабесках» в 1840 г.; рус. пер. Н. Галь.
Тем не менее, считается, что окончательный удар по рабству в США нанесла подписанная в 1863 г. президентом Авраамом Линкольном «Прокламация об освобождении».
Filed under: men@work

December 3, 2014
Sing Another Song, Boys
ну и колыбельная – для тех 1043 человек, которые это читают
Леонард Коэн
Споем другую песню, парни
Давайте споем другую песню, парни
Ибо эта устарела и прогоркла
Ах, его ногти все обгрызены неровно
Огнем охвачены его суда и снасти
А дочь ростовщика, шальную крошку
Сжирают, поедом сжирают страсти
Она за ним следит в свои бинокли
Из ломбардов коварного папаши
И салютует микрофоном
Что ей оставил под залог певец несчастный
И соблазняет его кларнетом
Размахивает штык-ножом фашистским
И видит, как он прикорнул
И хочет быть его немедля
А он: «Да, я, пожалуй бы, уснул
Но будь добра, уйди, и будь что будет».
Вот он стоит на крутизне
Наверное, себя считая первым
И кулаки его на кожаном ремне
Как на штурвале океанского гиганта
Она ж научится себя ласкать
А паруса его сгорают, как бумага
И вот он уже первую поджег
Из своих знаменитых сигарилий
И никогда, о никогда им не достичь своей луны
По крайней мере, той, что мы хотели
Ее, расколотую, носит по волнам — вон там, друзья мои
И в катастрофе той никто не выжил
Так давайте ж не станем объяснять им
Почему им не судьба быть вместе
И споем другую песню, парни
Поскольку эта и приелась, и прогоркла…
Filed under: men@work

here be newz


портрет нашего идеального читателя

Пинчон-в-контакте дорос до 500 человек, с чем мы его и поздравляем. по этому поводу там залудили головоломку, но… не справились. на безымянном пальце с таким же успехом может быть “Винляндия”, а средний – совершенно определенно “Мэйсон и Диксон”

вот вам утка Вокансона в подарок, дорогие друзья
для любителей жанра: эволюция удолбанных нуаров
зайки объясняют, почему нужно читать Пинчона

закуска к Питейному шкафчику Тома Пинчона – бутерброд “Ебни по пирсу”
Охота на Йети с Джошем Бролином

сомневаюсь я, что у нас будут такие витрины
адаптированный сценарий “Внутреннего порока” уже получил премию Национального совета обзорщиков
а Лайвлиб по ходу своей “Долгой прогулки” накидал уже третью страницу рецензий на “Радугу тяготения”
ну и немного о разном:

вот человек, который чуть не утопил ценное письмо
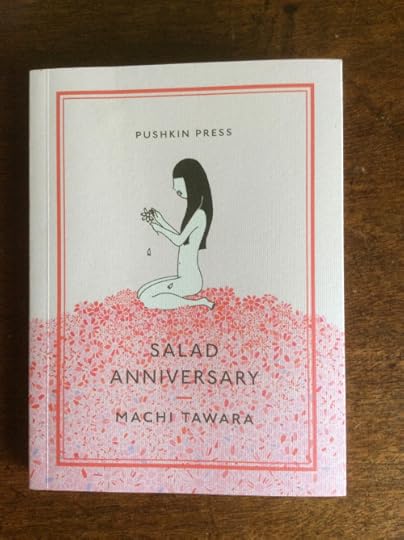
Тавару Мати любят не только тут и в Японии, но тут и в Японии все-таки больше
Filed under: pyncholalia, talking animals

December 2, 2014
N down N to go
ну вот, я ее вчера закончил вроде как
 Vanity of Duluoz: An Adventurous Education, 1935-46 by Jack Kerouac
Vanity of Duluoz: An Adventurous Education, 1935-46 by Jack Kerouac
My rating: 4 of 5 stars
Это роман «про футбол и войну». Понятно, преувеличение и кокетство автора, потому что он еще и про знаменитое убийство Каммерера, и про начала «битников», и про много что другое. Но первая треть — действительно почти исключительно про футбол и стоны о том, как нашего героя недооценивали на поле. Более нелепого идиотизма мне читать, наверное, не доводилось, это действительно, видимо, худшее из им написанного. Но стоит продраться сквозь эту первую треть — и дальше все будет хорошо, а под конец и вовсе прекрасно.
И трогает здесь (ок, даже в первой трети) в первую очередь то, что Керуак (о чем как-то не очень много говорят даже специалисты), и был, и навсегда остался писателем иммигрантским. Его восторг перед Америкой — это восторг чужака, аутсайдера, пришельца. И спорт в его жизни — в значительной мере от того, что «так принято» в чужой стране, что у спортсмена больше шансов выбиться из низов «в люди», срастить себе образование и уважение окружающих, старших и преуспевающих, стать «как все». Так было всегда. И в регистрации этого нехитрого факта — большая ценность этого литературно-исторического документа.
по этому поводу новый и вечно молодой Коэн
Filed under: men@work

December 1, 2014
Take This Waltz
и еще одна колыбельная из старенького
Леонард Коэн
Возьми этот вальс
В Вене есть десять маленьких женщин
Есть плечо — в него плачется Смерть
Вестибюль с семью сотнями окон
Голубиных кладбищ круговерть
Там есть распотрошенное утро
Что развесил по залам Мороз
О, возьми этот вальс
Вальс, губу закусивший до слез
Я хочу тебя, о мое чудо
С увядшим журналом в руках
В нежных гротах лилейного устья
В не познавших любви уголках
В простынях, где луна разметалась
И в шагах по пескам странных стран
О, возьми этот вальс
Подхвати же надломленный стан
Тот вальс, тот вальс, тот вальс, тот вальс
Тлена и коньяка
Тень дыханья легка
Шлейф чуть колышет волна
Есть концертный зал в старой Вене
Где твой рот ценят с разных сторон
Там есть бар с тишиною повисшей
Синим блюзом он приговорен
Ах, но кто же тебя приглашает
Свежих слез держа пышный букет
О, возьми этот вальс
Этот вальс умирал много лет
На чердак, где играют детишки
Мы взойдем в дымке томного дня
Старой Венгрии звезды пастушьи
Вспыхнут там для тебя и меня
Ты к печали своей приковала
Всех ягнят и все лилии льда
О, возьми этот вальс
С его «Не разлюблю никогда!»
Я с тобой танцевать стану в Вене
Карнавальным нарядом — река
Цепок как гиацинт мой в петлице
Как роса твоих бедер горька
Схороню свою душу в альбомах
В желтых снимках, в засохших цветках
И волнам твоей поступи вверю
Мою скрипку, и крест мой, и прах
И теченьем прекрасного танца
Увлечешь меня прямо на дно
Так возьми этот вальс
Как любовь, как любовь
Он твой. Больше нет ничего
Основано на стихотворении Федерико Гарсиа Лорки «Pequeno Vals Vienes» («Маленький Венский Вальс», рус. пер. А. Гелескула). В интервью «Си-би-эс» 26 августа 1995 г. ЛК говорил о Федерико Гарсиа Лорке и о создании этой песни так: «Не знаю, насколько [Лорка] помог мне найти собственный голос. Поскольку он казался таким экзотичным и далеким, он позволял мне красть или заимствовать многое из своего голоса. Как будто влюбляешься во что-то, и оно неминуемо оделит тебя определенной слепотой. Ты слеп к собственным несовершенствам и ограничениям. А это позволяет тебе рваться вперед по той тропе, которую хочешь себе избрать. Не думаю, что если влюбишься в какого-нибудь писателя, когда молод, это принесет много пользы. У Лорки же, когда я наткнулся на него, оказалось что-то ужасно знакомое, мне казалось, что так, как у него, всё в действительности и есть. Перед тобой возникает пейзаж, в котором чувствуешь себя как дома, может быть, больше дома, чем где бы то ни было, что смог придумать сам… “Возьми этот вальс” была великим мгновением. Я написал ее вот в этом [монреальском] доме. На перевод ушло 150 часов — это не считая музыки. И мне кажется, я довольно верно выдержал такт, который он изобрел для этого маленького вальса. Сила его языка, когда я впервые с ним столкнулся, дала мне очень много мудрого, просто вскружила мне голову. И даже не вскружила, просто восхитила. Я имею в виду, что восторг был глубоким. Мы говорим об одном из величайших мастеров языка. Я это знаю, потому что даже по-английски это чувствуется. Ощущаешь то силовое поле, которое этот человек излучает. И можно в него вступить, и почувствовать, и намагнититься им».
Filed under: men@work

the fall is over

знакомьтесь – японское издание “Радуги тяготения”

а об этой книжке сообщаю с большой радостью, хоть она и непримечательна на вид – у старого друга и соратника Жени Бутениной вышла такая вот монография
а теперь – радио, пусть оно и не Голос Омара, а Вокс Антиква:
первая радиопостановка – греки о романе “Внутренний порок”
"Something in the Air" (Part 1/3) by Vox Antiqua @ Amagiradio on Mixcloud
"Something in the Air" (Part 2/3) by Vox Antiqua @ Amagiradio on Mixcloud
"Something in the Air" (Part 3/3) by Vox Antiqua @ Amagiradio on Mixcloud
вторая радиопостановка – эти же греки о романе про Кромку Навылет:
On the Edge (Part 1) by Vox Antiqua @ Amagiradio on Mixcloud
On the Edge (Part 2) by Vox Antiqua @ Amagiradio on Mixcloud
тоже разновидность буквенного радио: я не Томас Пинчон, но (а может – и поэтому) со мной можно разговаривать

про кино “Внутренний порок” уже, наверное, все поговорили. настала очередь портных
а библиоклепты начали читать “Мэйсона и Диксона”
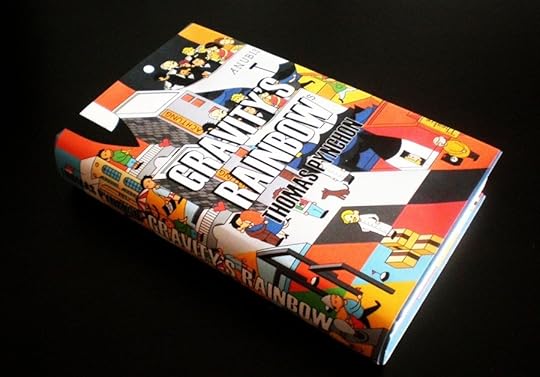
меж тем и русские читатели делятся сокровенным:
– Lost in Translator о “Радуге тяготения”
– Идiотъ о Пинчоне вообще
Filed under: pyncholalia, talking animals

November 30, 2014
sad news
как-то так совпало

умер Андрей Александров, прекрасный китаист и политолог, каких было мало. даже мне, ни разу не китаисту, о Китае он в свое время рассказал столько, что эти знания помогают мне до сих пор. общались последние годы мы с ним пунктирно – и жалость в том, что во Владивостоке в конце августа так и не удалось повидаться. Брат Ли сказал: “Дракон улетел на небо”. давать обещания “не забывать” что-то как-то нелепо, потому что хорошие люди с нами всегда

умер Марк Стрэнд, великий американский поэт, совсем почти не известный на ръязе
Марк Стрэнд
Старик проснулся при смерти
Вот край обетованный,
Обещанный мне, когда я засыпал,
А когда проснулся, его отобрали.Вот край, не ведомый никому,
Здесь имена кораблей и звезд
Уплывают из-под пальцев.Горы — уже не горы,
Солнце — не солнце.
Забываешь, как все было прежде.Я вижу себя, вижу
Берег тьмы у себя на челе.
Некогда я был невредим, молод был…Будто бы уже не все равно,
И вы меня слышите,
А погоды в этом краю когда-нибудь не станет.
Filed under: just so stories

November 29, 2014
flash news
вчера у нас был день премьер. ну, во-первых:

“Азбука” объявила первую книжку новой серии “Другие голоса”. художник Вадим Пожидаев. впервые за очень долгое время у меня нет вопросов
а во-вторых вчера же у нас была премьера песни:
ну и еще одна с того же концерта:
а это уже привет из прошлого:
вот такая у нас сегодня дискотека
Filed under: men@work

November 27, 2014
feeling any heroic?

мы да. такой плакат уже не разрешат в ръяз-пространстве ктулхуры
пока же – новости Радио Голос Омара:
– V значит V значит V (вчера, угадайте про что)
– Идеальные бродяги (moi, сегодня про Льитераса)
полтора часа разговоров о “Внутреннем пороке” – высказались все, кто мог и хотел
все продолжают радоваться выходу аудиокниги “Радуга тяготения”



ну и еще две афиши удивительного фильма “Замерзшие молнии”. рекомендуется всем пинчонитам, конечно же. это ГДРовское произведение занимает достойное место в пинчоновской киноахинее – где-то между “Операцией Арбалет”, “Ракеты не должны взлететь” и “Майором Вихрем”. слева внизу – Михаил Ульянов, ошибиться невозможно
Лев Данилкин отмечает “Радугу Фейнмана” Леонарда Млодинова
Возможно, читая книгу, “беседуя” со знаменитым нобелевским лауреатом (который, впрочем, несмотря на общепринятое мнение, в жизни мало чем отличается от простых смертных), каждый сможет найти что-то особенное и подходящее именно для себя, какую-то мысль, которая позволит посмотреть на жизнь под новым углом и, возможно, пересмотреть свои планы на будущее. свой глубокий анализ той же книжки анализатор завершает вообще зубодробительным рассуждением: Книга переведена с английского и иногда, особенно в начале книги, язык перевода оставляет желать лучшего. но это так, поржать
нам объяснили все про внезапный всплеск интереса к “Радуге тяготения” на Лайвлибе и интрига ушла. но это не значит, что зоопарк закрылся. местами он преобразился в клинику, и пора вызывать санитаров
лица друзей:
Filed under: men@work, pyncholalia, talking animals




