Max Nemtsov's Blog, page 41
April 29, 2024
showing again
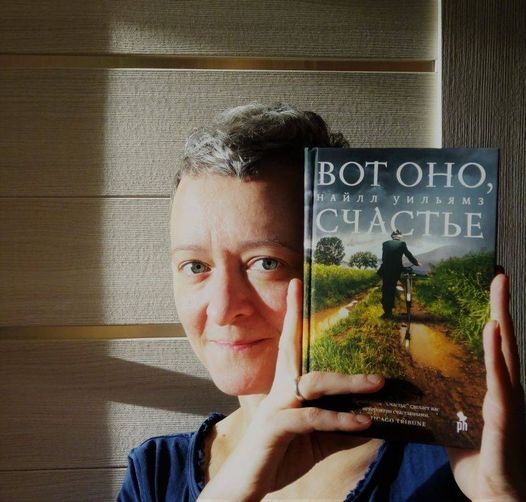
“фантомы” поздравляют Шаши со спецпремией



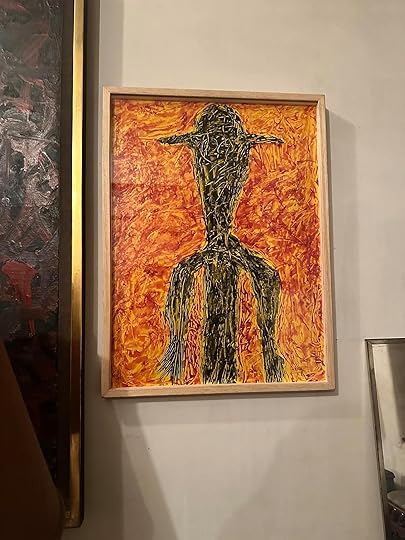



еще один небольшой фотореп из “Бункера”
обещанная лекция, наслаждайтесь

немного воспоминаний о Бротигане
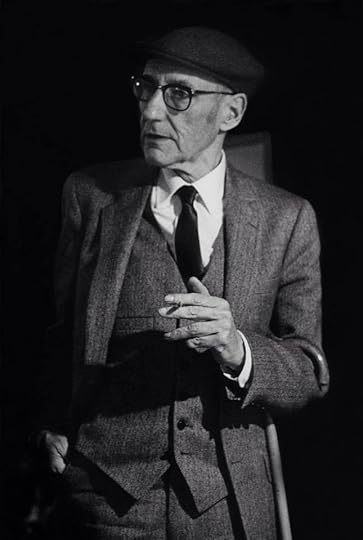


виды деда и некоторой молодежи, которая к нему тянется

и вот еще любимый автор, чей визаж встретишь нечасто
April 28, 2024
the news the news
Шаши дали специальную премию Норы Галь, ура
а тут, собственно, стоимость искомой книжки на некоторых “маркетах“, можно изумляться (и где наши денежки, я вас спрашиваю?)
Генис начинает с того, что рассказывает, как ему нравятся “Бродяги Дхармы”


остается скорбно взирать на их поколенье
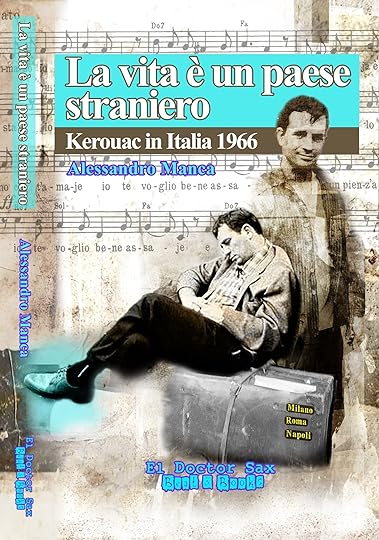
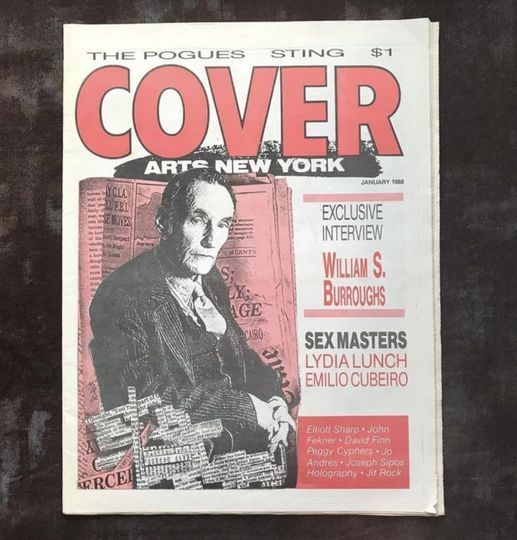
вот вам две обложки
Патрик Брюэль между тем офигительный клип выпустил (сам он в нем тоже мелькает)
April 27, 2024
going on
у меня для вас новости. Джек Керуак: “Әр сөзді түзеп әуре болмаңыз. Маңыздысы – жалпы картина“
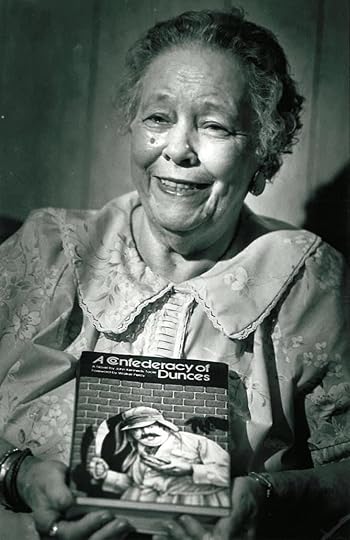

мама…



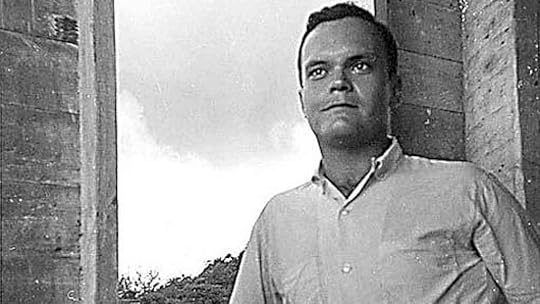
и сын, похожий на Орсона Уэллза



а также два памятника – автору и его герою
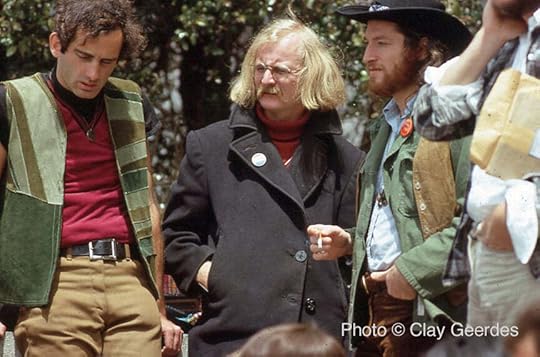
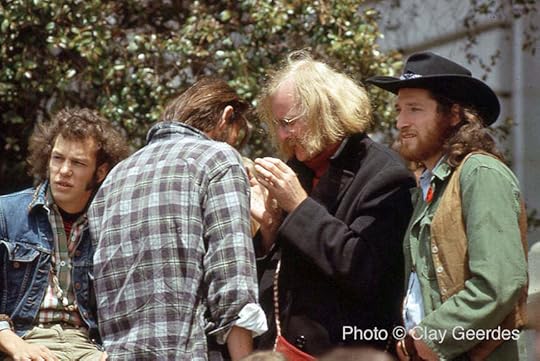
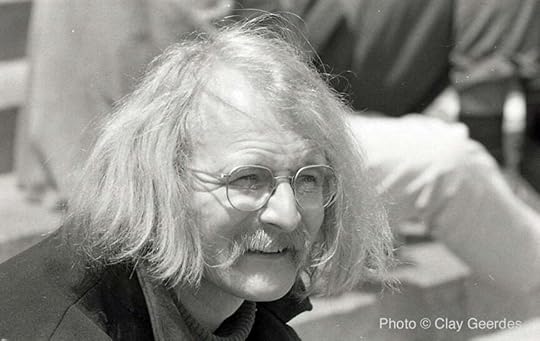
еще один автор, который редко у нас появляется
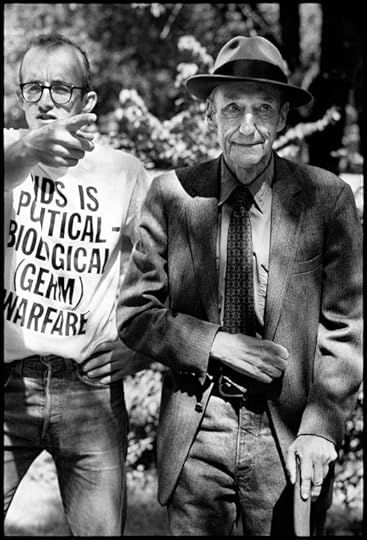
молодежь всегда тянулась к деду (это Кит Хэринг, если вы его не узнали)
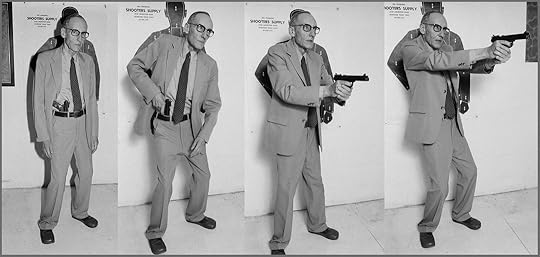
правильное отношение к жизни

тоже правильное отношение к жизни
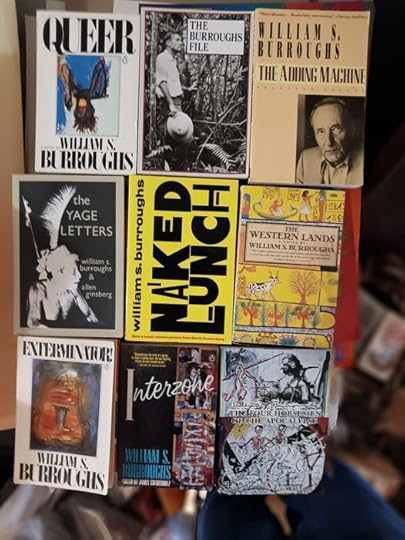
вот вам несколько хороших обложек
Илья красиво стареет и успешно переизобретает себя
April 26, 2024
premiering on
продолжаем примерять:
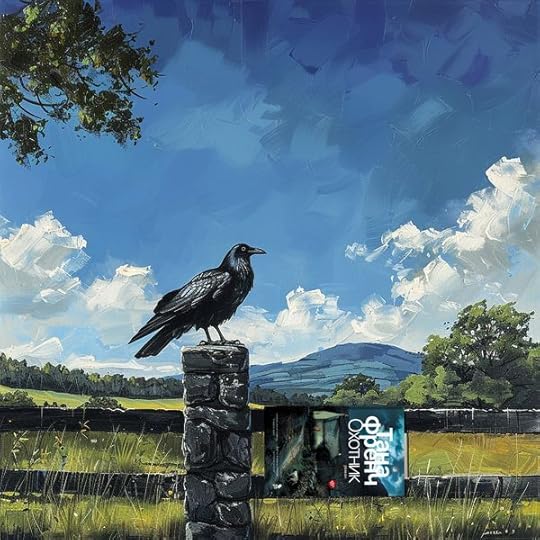
Игорь А об “Охотнике“
любезный Николай Александров записал нас в приличную компанию, приятно
пинчата читают “Людоеда”
еще один повтор эфира будет (но скоро начнутся и новые, не отключайтесь)

в новой художественной кинофильме “Пидор” дед – справа. в том, что Бонд изобразит деда, есть какая-то высшая поэтическая справедливость (слева идеализированный Аллертон, надо думать)

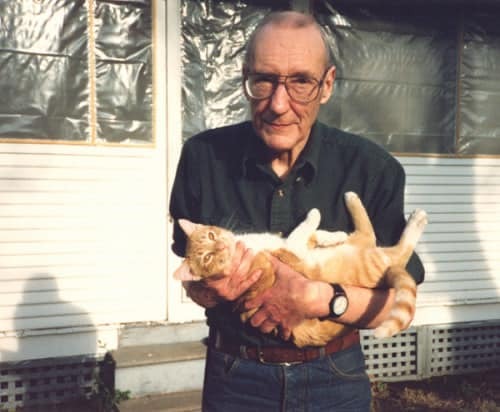
посмотрите на них – это же практически одно лицо

котика-то небось никто так красиво не изобразил в фильме

две серьезные дамы
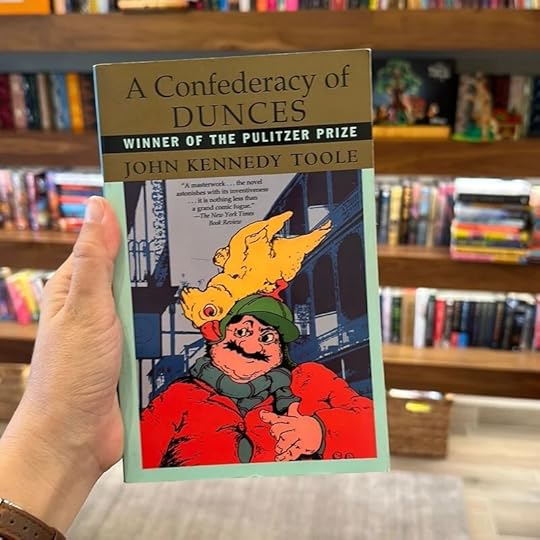
ну и любимая обложка в конце
April 24, 2024
some premiere
сегодня у нас премьера обложки:

а тут еще одна и несколько слов от издателя:
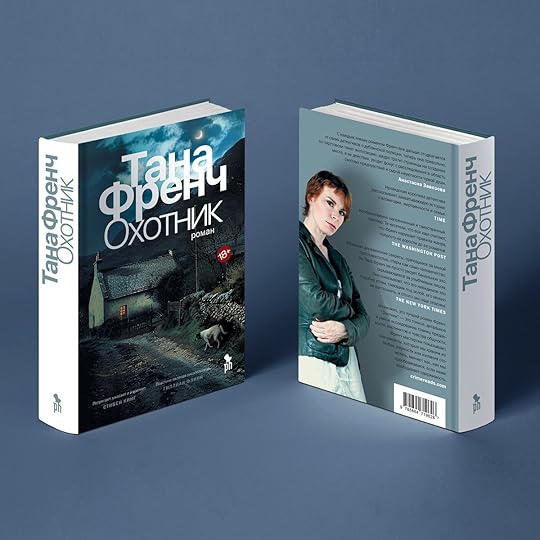
“Азбука” между тем только ждет “Саттри“. из прочих мест вестей пока нет
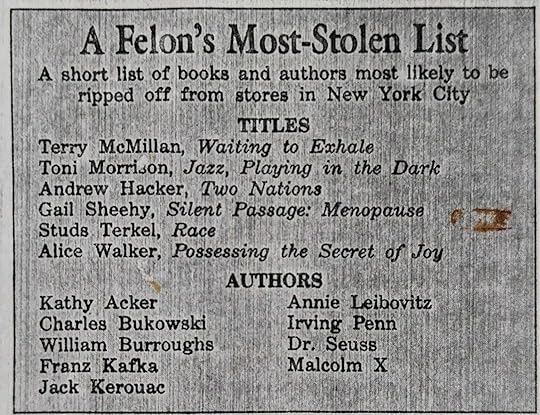
вот вам зато полезное – шпаргалка, что красть в магазинах (трех авторов я переводил, переводы еще одного редактировал)
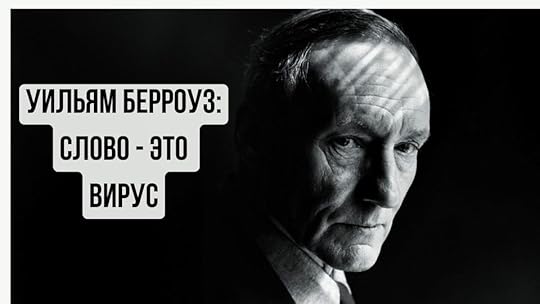
ох ты ж блин. лекция самоназначенного спеца, не пропустите. постановка проблематики уже говорит о многом. например, о том, что дед лектору не нравится (там логика в духе “поэт ли Верочка?”)
April 23, 2024
a bit of this and that
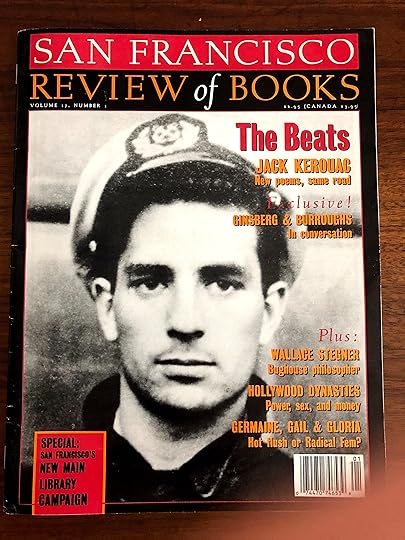
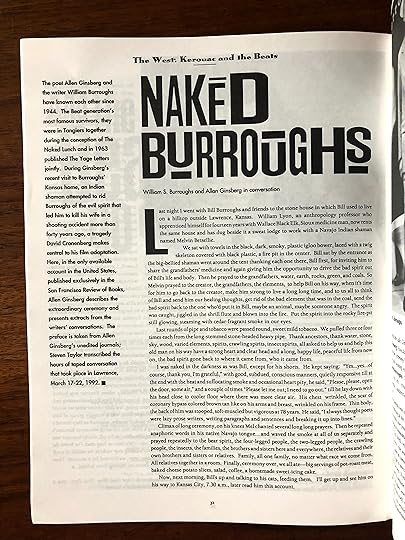
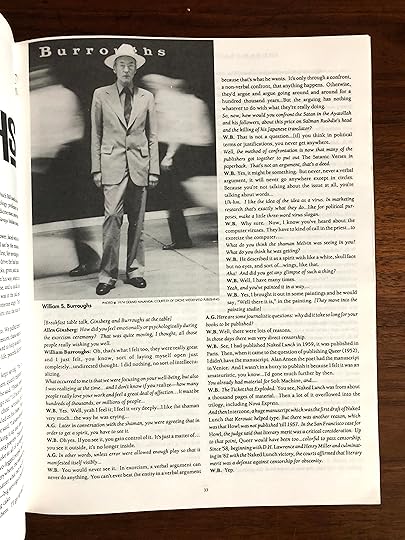
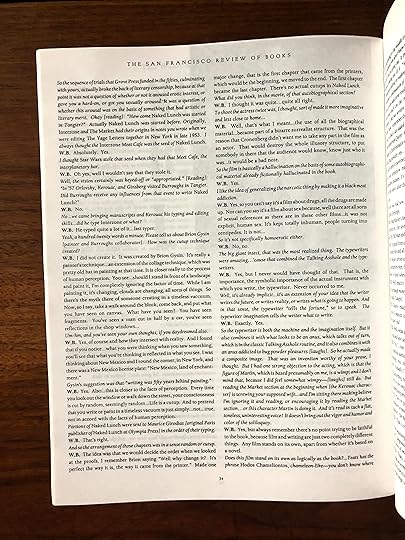
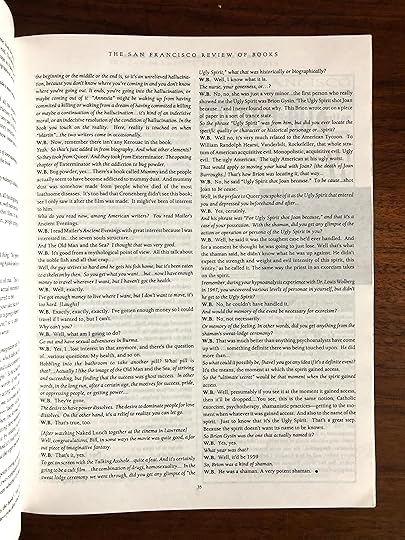
ну вот как это? на облождке Керуак, а внутри голый Барроуз? отсюда
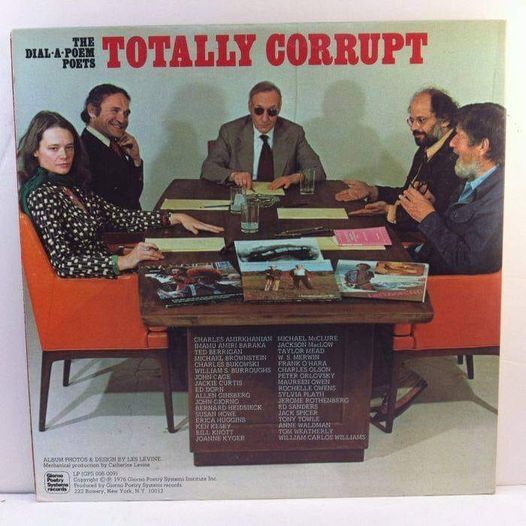

весь битницкий партком
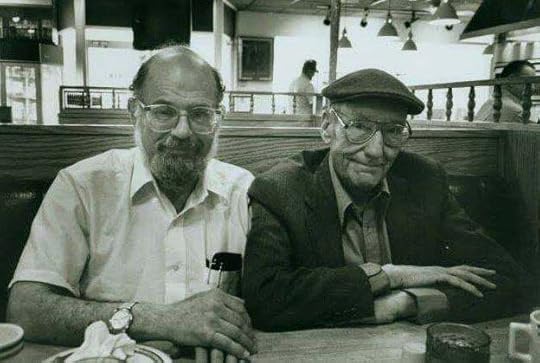

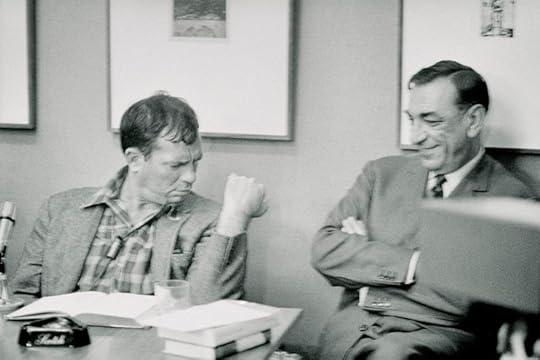
и немного видов деда и котика
а теперь страничка юмора: вчерашний исследователь нашел-таки постмодернистов (часть 2)
вот умом понимаю, что этих читателей надо бы жалеть, гладить по голове и говорить, что у них она не квадратная. но не получается. некто об “Арбузном сахаре” Бротигана, например. ее статус на лайвлибе называется “Гуру”
еще одно страдающее средневековье сознание – о “Самом глупом ангеле” Мура
April 22, 2024
the same the same
стоило Барту помереть, как пошла писать губерния (впрочем, у нас скоро будут новости, так что не отключайтесь)
вот и тут нам кто-то поясняет за постмодернизм (первая часть – там еще и вторая будет? страшновато)
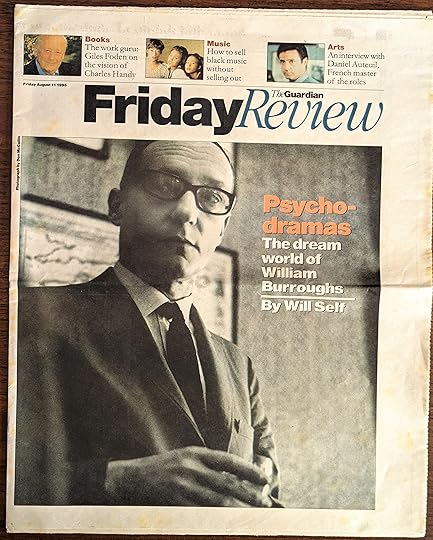
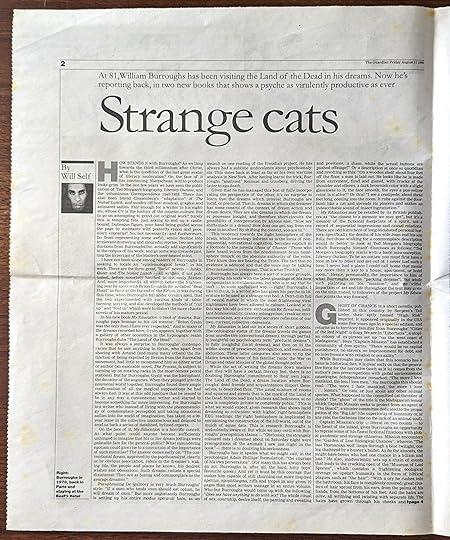
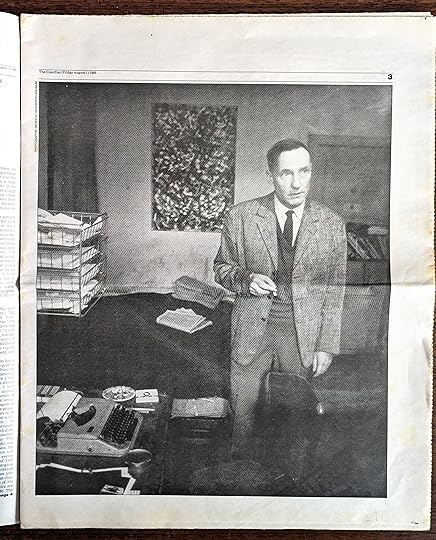
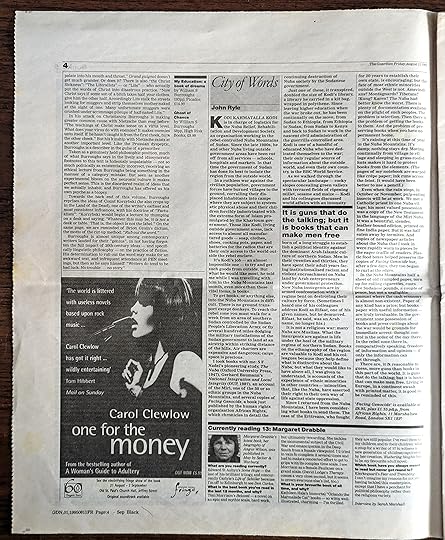
отсюда. другие виды деда:
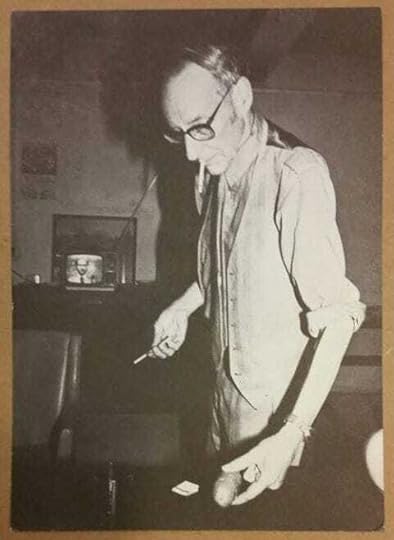
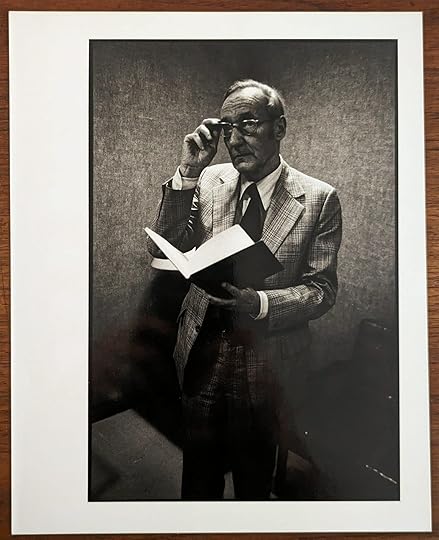
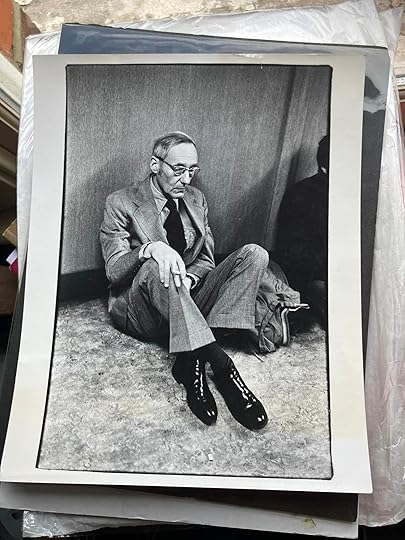
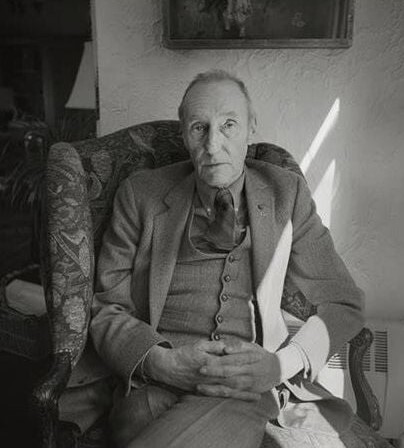

и неистовый котик напоследок
April 21, 2024
still more of the same
вот вы удивляетесь, что происходит со страной, а я нет, потому что уже некоторое время наблюдаю за ее широким читателем. он может читать хорошие книжки, но нихера в них не понимает и несет всякую хуйню. вот образчик высоконравственного прочтения “На дороге“
а тут уже свора таких же оголтелых обсуждает Халеда Хоссейни – начиная с “Эхоеда“
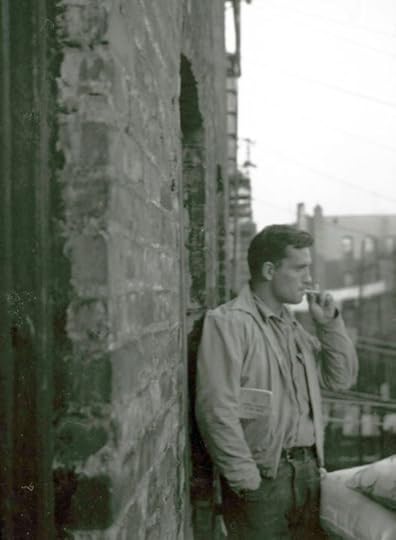
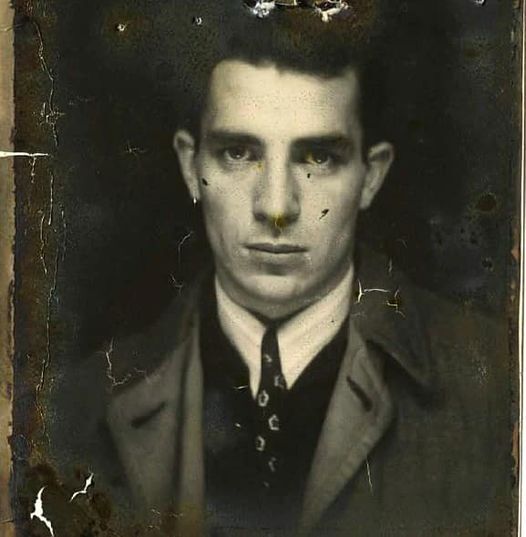

котик смотрит на таких читателей известно как на что и ничего хорошего от них не ждет
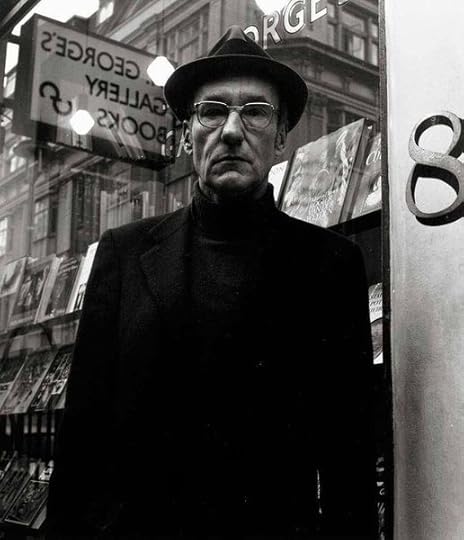
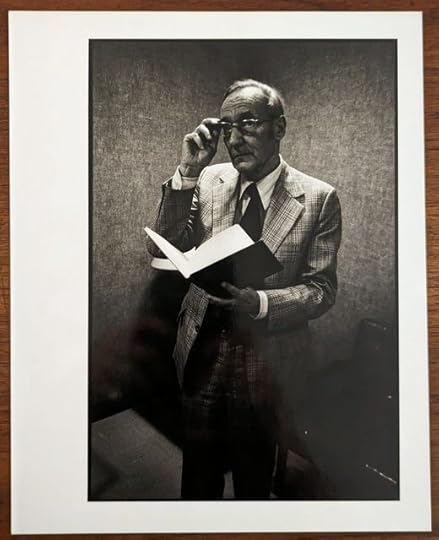
дед, в общем, тоже. он недаром же заметил в “Месте мертвых дорог”: The mark of a basic shit is that he has to be right.
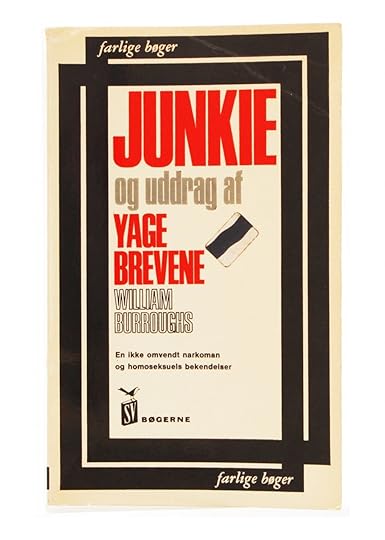
вот вам лучше хорошая обложка
ладно, теперь веселая минутка – про крашеных ряженых:

в кинухе якобы про БобДилана заметили неправильные микрофоны, хотя, казалось бы, могли заметить и неправильного БобДилана
не очень веселая минутка: вчера с городке умер известный музыкант, вот какой:
мы так и не успели послушать его живьем
April 19, 2024
some more of the same

пополнение в Баре Тома Пинчона
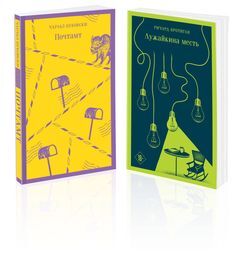
пополнение в окончательно охуевшем книжном магазине: они это называют “комплектом Брутальный набор” (sic!)

наш тест на внимательность: сколько смысловых ошибок и опечаток вы найдете на этой рекламной листовке английского издателя? (с хорошей точностью одна из вами найденных таковой не будет)
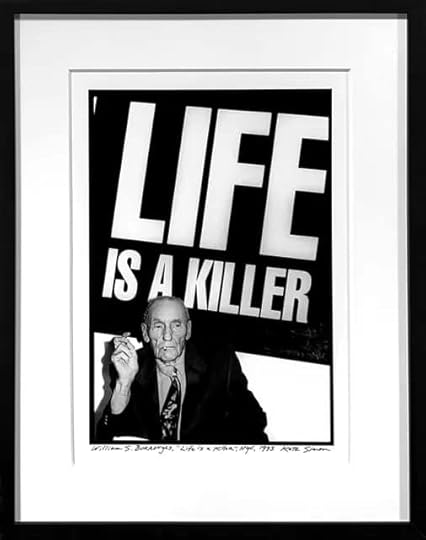
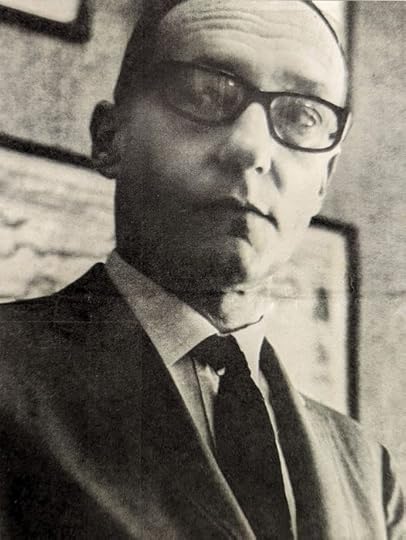
и еще два вида деда
our pictorial smth
повтор эфира с Кики Петросино (тексты тут)
коллеги продолжают обзирать кино про хороших писателей – вот о Барроузе (не все, но хорошие)
а тут какие-то деятели вещают о Джоне Хоуксе вроде бы (я не слушал, я вообще телевизор не смотрю)
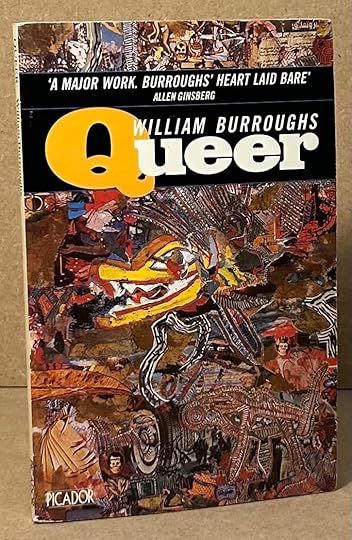
вот еще красивая обложка (но роману на русском ничего больше не светит, ясное дело)
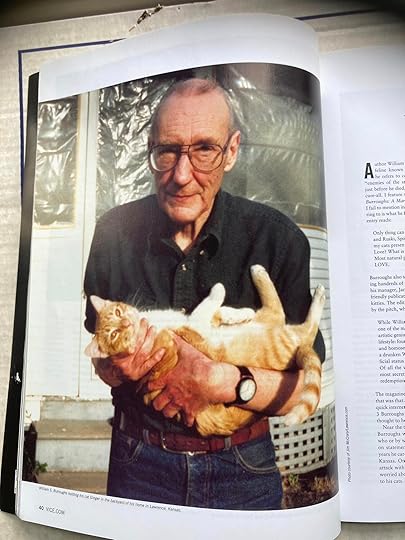
Барроуз и котики (вся статья тут) (они же, кстати выкладывают и всякие редкости)
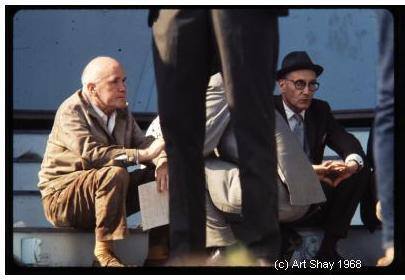
Жан Жене, ноги Нормана Мейлера и дед, Чикаго, 1968 год
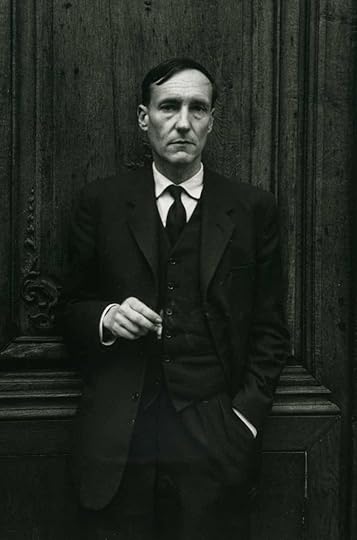
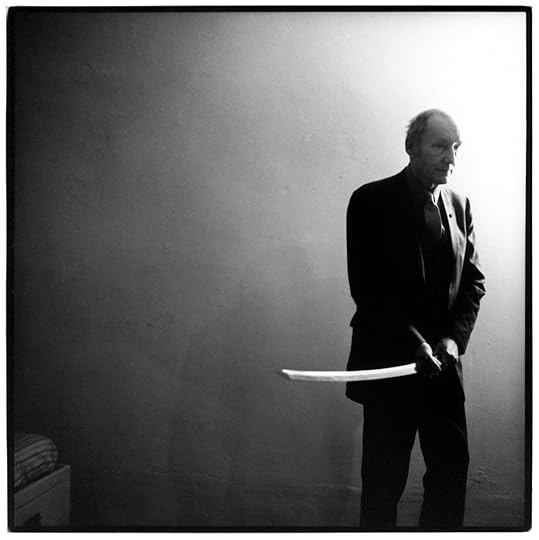
виды деда
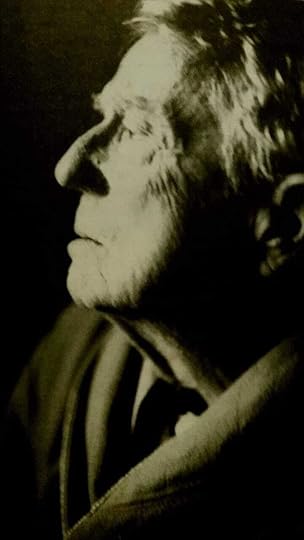


виды Боулза от Андерса Аскегаарда


котик в разных видах



