Александр Панчин's Blog, page 6
July 24, 2024
Пить или не пить? О безопасной дозе алкоголя
Тема про вред и пользу алкоголя вызывает у меня дикую ностальгию по двухтысячным. В те времена популярным мемом был очень экстравагантный спикер — профессор Жданов, председатель «Союза борьбы за народную трезвость». Он был яростным противником алкоголя и напридумывал про него невероятное количество мифов. Например, Жданов ссылался на давно разоблачённый план Даллеса, согласно которому иностранные разведки якобы спаивают русский народ, навязывая ему культуру алкоголя. Попутно профессор рассказывал и расистские байки про еврейский заговор с убийством младенцев головой об угол стола.
Но гораздо больше прославилась его теория про пукающие бактерии, которые создают шампанское. Он утверждал, что вот они напукали, а вы пьёте эти пузырьки (и рисовал бактерии с глазами). Так он использовал эмоциональный образ, чтобы привить отвращение к продукту. Ирония заключалась в том, что Жданов постоянно рекламировал изделия из мёда. А ведь мёд по этой логике, это, собственно… эм… блевотина пчёл.
Другая его фирменная фраза была: «Тот, кто пьёт вино и пиво, наутро мочится своими мозгами». Ну это тоже перебор: нейрон слишком большая клетка, чтобы протиснуться через почечные клубочки и оказаться в моче. При этом у Жданова была серьёзная проблема: он глубоко верующий, а в христианстве причащаются вином. Чтобы соединить эти два мира, он объявил, что всё вино в Библии — на самом деле виноградный сок. Так что он ещё и новатор в области теологии. Короче, чтобы отвадить людей от алкоголя, Жданов напридумывал антинаучных пугалок, да ещё прибавил к ним теории заговора. И этим скорее навредил идее трезвости.
А теперь – дисклеймер. Этот пост проплачен… Нет, не алкогольной мафией. Мой конфликт интересов лишь в том, что я иногда пью алкоголь, а значит, порой нахожусь под его влиянием. Правда, я ни разу в жизни не выпил столько, чтобы потерять память или проснуться с похмельем. И вообще, состояние лёгкого опьянения я переживал за всю жизнь раза четыре. Поэтому я точно не фанат алкоголя — но и не радикальный трезвенник. Если хотите знать — я не пью крепкие напитки, а предпочитаю фруктовое бельгийское пиво, полусладкое шампанское, ледяное вино Eiswein и мохито. И главное, я пью мало алкоголя не потому, что специально себя заставляю. Мне просто никогда не хотелось пить больше условного бокала вина.
Нельзя отрицать, что в масштабах человеческого общества алкоголь — штука очень опасная и даже кровавая. По данным ВОЗ от последствий употребления алкоголя умирает три миллиона человек в год. Согласно одной из публикаций в The Lancet, он занимает пятое место по опасности среди всех психоактивных веществ — после героина, кокаина, барбитуратов и кустарно произведённого метадона (а согласно другой публикации — первое).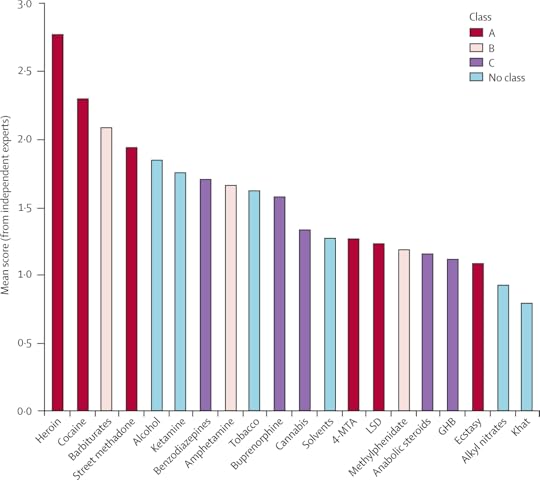
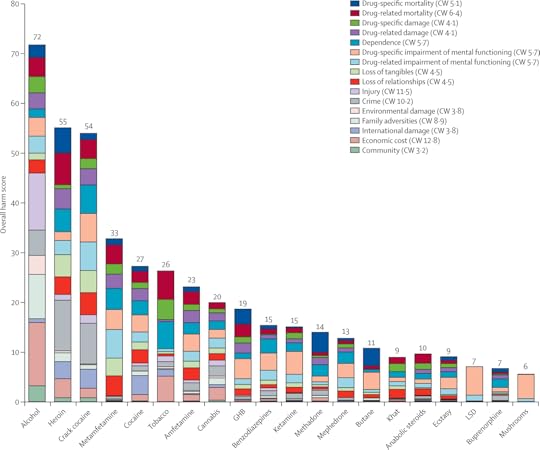
Международное агентство по исследованию рака относит алкоголь к канцерогенам первой группы: то есть существуют исчерпывающие доказательства, что спирт может вызывать рак у людей. С алкоголем связывают рак пищевода, рак печени, молочной железы, разнообразные раки ЖКТ. Учитывая широкую популярность алкоголя, получается, что около 3,5% всех случаев рака на планете связаны с употреблением этилового спирта.
Алкоголь повышает риск смерти и по другим причинам: через насилие, рискованное поведение, аварии на дороге, утопление… Ещё один очень важный вид вреда — это тератогенный эффект алкоголя, то есть необратимые врожденные дефекты у ребенка в результате употребления спиртного женщиной во время беременности.
Но даже при всём этом ужасе мне кажется, что некоторые люди демонизируют алкоголь больше, чем следовало бы — и придумывают необоснованные страшилки — как Жданов. Есть фанатичные поборники трезвости. Возможно, они сами столкнулись с негативными последствиями алкоголя в жизни — и эмоционально я их хорошо понимаю. Но важно быть объективным. Перечислять и плюсы, и минусы. А главное, не думать о людях как о дураках, от которых можно скрыть знания о реальности ради их же блага.
Откуда вообще у людей взялась приверженность к алкоголю? Есть забавная гипотеза — пока что она не доказана — которую сформулировал Роберт Дадли из Университета Калифорнии в Беркли. Он назвал её «гипотеза пьяной обезьяны». Для наших предков важной частью рациона были забродившие фрукты, самые спелые. Не пропускать же такой источник легко усваиваемых веществ! А значит, нашему организму эволюционно выгодно лояльно относиться к этиловому спирту и уметь его перерабатывать. Действительно, показано, что некоторые виды обезьян даже предпочитают забродившие фрукты обычным и находят их по запаху.
Этанол и забродившие фрукты любят не только приматы. Хмельные плоды с охотой едят самые разные животные. Известны случаи, когда дикие птицы получали из них летальную дозу этанола. Есть даже научная статья: птички упали с крыши и разбились. При вскрытии обнаружилось высокое содержание алкоголя в желудке и печени: они переели забродившего боярышника.
У человека есть как минимум два основных фермента, которые нужны для переработки этилового спирта. Они работают один за другим:
сначала за спирт берётся первый фермент: алкогольдегидрогеназа. Он берёт этиловый спирт и перерабатывает его в токсичный ацетальдегид, играющий ключевую роль в похмелье. А ещё ацетальдегид во многом отвечает за вред алкоголя: например, он может повреждать ДНК;
дальше в дело вступает второй фермент — альдегиддегидрогеназа. Он берёт токсичный ацетальдегид и перерабатывает его в безобидную уксусную кислоту, которая выводится вместе с мочой.
Мутации в генах, которые отвечают за эти две «геназы», хорошо предсказывают предрасположенность человека к алкоголизму. Дело в том, что оба этих фермента бывают быстрыми и медленными. Представьте, что у вас быстрый первый фермент и медленный второй. Тогда спирт активно перерабатывается в ацетальдегид, и тот стремительно накапливается в теле — ведь второй фермент не успевает его переработать. Именно так работает «азиатский синдром красного лица», при котором признаки похмелья наступают почти моментально: краснеет кожа на лице, болит голова, начинается тошнота. Из-за этого у человека гораздо меньше желание пить. Мутации, из-за которых второй фермент медленный, широко распространены в Азии. Отсюда и название Asian flush syndrome.
А что, если гены сработали наоборот? Допустим, у вас первый фермент медленный, а второй — который расщепляет ацетальдегид — быстрый. Тогда этанол дольше перерабатывается и дольше воздействует на мозг. Ощущения от приёма спирта приятней — а похмелье наступает не сразу. Казалось бы, куда лучше! Но из-за этого повышается риск алкоголизма: вы пьёте безнаказанно и много. Тут надо оговориться, что есть и другие гены, влияющие на предрасположенность к алкоголизму.
Хорошо, а что наука говорит нам про механизм действия алкоголя? Почему он пьянит? Алкоголь действует на конкретные мишени. Самая известная — это рецепторы нейромедиатора ГАМК, гаммааминомасляной кислоты. Нейромедиаторы — это вещества, которые нейроны выбрасывают в местах контактов с другими нейронами, чтобы передать им сигнал. Нейромедиаторы могут активировать или тормозить возбуждение целевого нейрона. Так вот, ГАМК — это важнейший тормозный нейромедиатор. Воздействуя на рецепторы ГАМК, алкоголь вызывает торможение части нейронов в нервной системе — что обычно приводит к замедлению реакции, успокоению, раскрепощённости, эйфории. Поэтому алкоголь причисляют к депрессантам. И в этом он схож с другими успокоительными препаратами. Например, так действуют анестетик эфир, транквилизаторы диазепам, фенибут и пропофол.
Кстати, вы удивитесь, но диазепам и фенибут даже предлагали сделать альтернативой алкоголю! Идея была такая: дать людям похожее по действию вещество, но с меньшим вредом для здоровья и не вызывающее столь сильной зависимости. Одна медицинская статья, которая защищала такой подход, называлась так: «Диазепам к обеду, сэр?». Ещё есть такая компания, которая называется GABALabs. Её научный руководитель — британский психиатр Дэвид Натт. Его уволили в 2009 году за критику политики правительства в отношении психотропных веществ. Он считал странным, что некоторые запрещенные вещества очевидно безопасней разрешённого этанола. Собственно, он и был соавтором нашумевшего исследования в The Lancet, где опасность алкоголя была оценена крайне высоко.
Так вот, Натт пришёл к выводу, что надо окончательно решить алкогольный вопрос. Будучи крутым учёным, он взялся за разработку безопасных препаратов, влияющих на ГАМК: чтобы приятный и расслабляющий социальный эффект, аналогичный этанолу, был, а негативных последствий и привыкания – не было. Вместе с коллегами он разработал напиток Sentia, который даже можно купить в некоторых странах и добавлять в коктейли.
Теперь кратко расскажу про белую горячку. Многие люди думают, что она бывает, когда много выпил — но на самом деле всё наоборот. Сначала алкоголик очень долго пьёт, а потом прекращает — и его нейроны «включают форсаж». Затормозить их можно только ещё одной порцией алкоголя. А если пить нечего, появляется синдром отмены — который может привести к галлюцинациям, судорогам и даже смерти. А также делает человека опасным для окружающих.
А почему от выпивки люди шатаются и падают? Мы испытываем проблемы с равновесием потому, что алкоголь временно глушит определённые нейроны в мозжечке. А при сильном опьянении иногда возникают провалы в памяти — «блэкаут». В этом случае этанол действует на рецепторы, которые связаны с другим нейромедиатором — глутаматом. Он влияет на формирование памяти в гиппокампе. Так что потеря памяти от выпивки — это тоже не какой-то общий эффект в духе «мозг проспиртовался и отключился». Это именно прицельный удар по тем клеткам, которые формируют память.
А теперь – про похмелье. Головную боль при нём вызывают две причины. Во-первых, голова болит при обезвоживании: алкоголь ускоряет мочевыделение. Поэтому на ночь после пьянки лучше пить побольше воды. Во-вторых, в крови накапливается продукт распада спирта, тот самый токсичный ацетальдегид. Пока он не переработался, он вызывает головную боль. Есть ещё третий механизм. Кроме этилового спирта, в некоторых алкогольных напитках содержится небольшое количество ядовитого метилового. Разделавшись с этанолом, организм принимается за метанол, и превращает его в очень токсичный формальдегид. Он усиливает мучения при похмелье.
Так вот, учёные предполагают, что благодаря этому «работает» опохмел. Если с утра снова выпить, ваш организм переключается с переработки метанола на расщепление вновь прибывшего этанола. Но так вы лишь оттягиваете неизбежное: позже придётся переработать всё, что осталось. Поэтому можно сказать, что единственное настоящее лекарство от похмелья — это вода и время.
Но можно сделать всё наоборот: усилить похмелье! Существует лекарство против алкоголизма, дисульфирам, которое замедляет переработку ацетальдегида. А значит, на фоне приёма дисульфирама мучительное похмелье начинается почти сразу. Так мы искусственно воссоздаём эффект «азиатского синдрома». Это и называется — «закодироваться». К сожалению, у дисульфирама много дурных побочных эффектов, потому что подавляемая им альдегиддегидрогеназа важна и для других функций организма.
А что с зависимостями от алкоголя? Прежде всего, учёные установили процент людей, которые склонны к появлению проблем с алкоголем, если уже начали его употреблять. Это примерно 10–15% населения. То есть большинство людей не являются потенциальными алкоголиками. Но что отличает эти 10–15%? Чтобы это выяснить, учёные заставили крыс принимать кокаин.
В 2004 году вышло исследование про крыс, у которых попытались выработать зависимость от кокаина. Наркотик принимали все животные в группе. Но вот удивительная вещь: зависимость развивалась лишь у небольшого процента грызунов. Мало того, в следующих экспериментах крыс пытались отучить от белого порошка. Им давали выбор: кокаин или сладенькое. И это работало. Оказалось, что для крыс эти две вещи вполне сравнимы. Большая часть крыс, в том числе наркозависимые, в итоге предпочитали кокаину обычный сахарок. Но опять же: осталась небольшая часть закоренелых крыс-кокаинистов, которые упорно отказывались от сладкого в пользу наркотика. А если их всё же удавалось отучить от кокаина, эти крысы «срывались» на него при первой возможности.
То есть мы увидели, что зависимость надёжно развивается только у части особей. Поэтому учёные, вдохновлённые опытами с кокаином… в смысле, с крысами под кокаином… решили попробовать то же самое с алкоголем. Это исследование вышло уже в 2018 году: тут тоже крыс сначала приучили пить алкоголь, а потом давали им выбор: пьянствовать или есть сладкое. И снова большинство крыс вернулись к сладостям. Лишь небольшое число крыс выработали поведение, похожее на зависимость. Но у них всё было серьёзно. Они пили, даже когда им не хватало калорий. Они пили, когда их здоровье ухудшалось. Они пили, когда их за это били током... Они даже готовы были работать, только бы дорваться до алкоголя!
Получились настоящие крысы-алкоголики. И вот эту крысиную алкашню стали изучать: чем отличается их мозг? Больше всего отличий от других крыс у них было в районе миндалевидного тела. Оказалось, что у этих несчастных крыс-алкоголиков был ослаблен обратный захват нейромедиатора ГАМК. Того самого нейромедиатора, который отвечает за приятные эффекты алкоголя. Что это за обратный захват? Когда нейрон выработал нейромедиатор, его потом нужно засосать обратно — иначе его действие не остановится. Из-за нарушений обратного захвата ГАМК крысы-алкоголики ощущали действие алкоголя сильнее и дольше. Алкоголь имел над ними больше власти. Исследователи нашли у крыс конкретную мутацию, которая за это отвечает. И оказалось, что мутации в том же гене у человека уже печально известны: они часто приводят к нарушениям поведения и интеллектуального развития, вызывают эпилепсию.
Но на этом ученые не остановились.
Они препарировали и сравнивали мозги умерших алкоголиков и обычных людей. И оказалось, что в центральной части миндалевидного тела у алкоголиков происходило то же самое, что у алко-крыс: у них были признаки сниженной активности обратного захвата ГАМК. Возможно, мы действительно раскрыли одну из причин, почему некоторые люди рискуют стать алкоголиками — и почему им гораздо сложнее избавиться от этой зависимости.
А теперь самая сложная тема: польза алкоголя. Всё-таки хомо сапиенс с алкоголем взаимодействуют очень давно. И до сих пор у нас остаётся активное желание его употреблять. Если есть значительный процент людей, которые страдают от алкоголя и погибают от него — тогда в процессе естественного отбора они должны были бы вымереть, и остались бы только устойчивые к привыканию особи. Или даже алкофобы. Однако этого не произошло. Возможно, приём этилового спирта даёт какие-то косвенные эволюционные преимущества.
И тут нас поджидает проблема. Мы хотим разобрать вопрос научно — но не можем поставить двойной слепой рандомизированный эксперимент на людях по всем правилам доказательной медицины: «Вот вы бухайте, а вы не бухайте!». Прежде всего потому, что человек точно знает, пьёт он или нет. С плацебо алкоголь не перепутаешь.
Тем не менее, можно много узнать об эффекте алкоголя другими способами. Например, контролируемые исследования можно провести на грызунах. Поить животных этиловым спиртом и смотреть, что будет с их здоровьем. Таких работ довольно мало — но они есть. Одна вышла в 2020 году – в ней экспериментальная группа мышей регулярно принимала 3,5-процентный этанол. Что же обнаружили учёные? У пьющих мышей… как ни странно… улучшилось здоровье. Мыши в «алкогольной» группе были более активными, у них лучше функционировали митохондрии в клетках. Ещё у них повысилась защита от воспалений и устойчивость к диабету. Продолжительность жизни у них не сократилась, а даже увеличилась (правда, совсем чуть-чуть).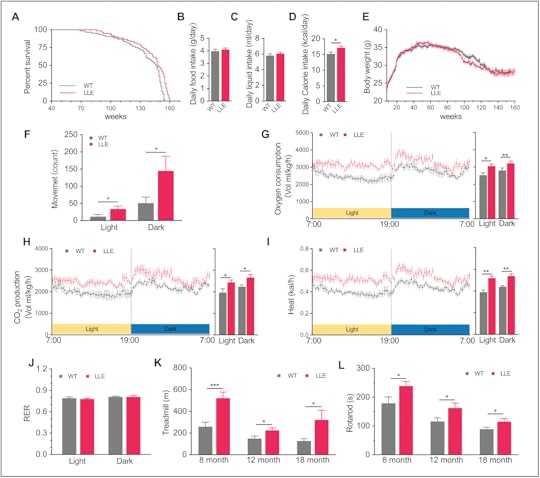
Было и более старое исследование, 2014 года. Там сравнивали обычных мышей — и мышей, у которых поломан ген альдегиддегидрогеназы (это тот самый второй фермент, который расщепляет токсичный ацетальдегид). Естественно, обе группы мышей заставляли в меру пьянствовать. И у мышей, у которых «второй фермент» работал исправно, это не приводило к ощутимым негативным последствиям: жили как жили. А вот у мутантов, у которых этот фермент не работал (как у людей с «азиатским синдромом»), существенно падала продолжительность жизни. Видимо, от мучительного похмелья.
К сожалению, очень часто то, что работает на животных, неприменимо к людям, поэтому строгих выводов о влиянии алкоголя на человека из этих работ сделать нельзя. И тут на помощь нам приходят эпидемиологические исследования. Что это такое? Мы берём огромное количество людей, скажем, пьющих и непьющих; собираем о них как можно больше данных – и потом вносим поправки, чтобы выборки можно было сравнивать. Богатых сравниваем с богатыми, больных с больными, спортсменов со спортсменами и так далее. Стараемся учесть как можно больше всего, чтобы в итоге удалось оценить влияние именно интересующего нас фактора: например, алкоголя. Мастером таких исследований был легендарный эпидемиолог Ричард Долл.
Именно этот учёный сыграл ключевую роль в доказательстве того, что курение вызывает рак лёгких — в тот период, когда табачное лобби успешно дискредитировало любые подобные исследования. Он же доказал, что рак вызывает асбестовая пыль. Опять же, асбест тогда использовали везде. То есть Долл стоял у истоков двух самых известных случаев, когда эпидемиологический фактор удалось связать со смертностью и спасти бессчётное число жизней.
А потом Долл взялся за тему алкоголя. Взял 12 000 мужчин, британских врачей, в возрасте от 50 до 90 лет. За ними наблюдали в течение 13 лет и спрашивали о том, сколько они пьют. Выяснилось, что зависимость смертности от потребления алкоголя в этой выборке была подковообразная, точнее в форме J-кривой — ручки от зонтика. Те, кто пьёт много, в среднем раньше умирает. Те, кто совсем не пьёт, тоже. А вот самая низкая смертность была у тех, кто пьёт, но совсем чуть-чуть. При этом снижалась прежде всего смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.
Так родилась теория, которую особенно ненавидел профессор Жданов — и о которой в последнее время часто говорят в СМИ. Она гласит, что малые дозы алкоголя могут быть вовсе не вредны, а даже полезны. Важно уточнить: когда мы говорим «малые дозы» — это не более бокала вина или пива в сутки. И что ещё важно, нельзя накапливать дозу — например, выждать несколько дней и разом высадить бутылку вина. Такие дозы крайне вредны для здоровья.
Статья Долла вышла в 1994 году. Критики предъявили ему претензии, которые он сам признал резонными. Во-первых, среди непьющих были люди, которые бросили пить из-за проблем со здоровьем. А значит, их организм уже мог быть подорван выпивкой. А во-вторых, «умеренно пьющие» могли вести более здоровый образ жизни или иметь более высокий достаток. Поэтому они и пьют бокальчик вина пару раз в неделю.
Долл попробовал сделать поправку на тех, кто бросил пить — и эффект сохранился. Но всё равно у критиков оставались оправданные сомнения. К счастью, с тех пор несколько огромных исследований подтвердили гипотезу Долла, даже после учёта всех замечаний. В одном из них девять лет наблюдали 490 000 взрослых американцев, мужчин и женщин. Причём в роли непьющих рассматривали только тех, кто никогда не пил. В другом взяли 120 000 человек, наблюдали за ними целых 20 лет. Делали всевозможные поправки: на пол, возраст, образование, достаток, курение, семейный статус... И даже вероятность того, что человек привирает про дозу алкоголя.
И всё равно в обеих статьях наблюдался эффект снижения общей смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний. Да, эффект оказался слабее, чем у Долла. Но при этом он усиливался с возрастом (что логично для проблем с сердцем, ведь они чаще возникают в старости). Так ведь и у Долла было то же самое — он брал именно врачей от 50 лет.
И это ещё не всё. «Подкова Долла» оказалась настолько спорной темой, что по ней вышла ещё куча исследований. Самое крупное и свежее завершилось в 2023 году. В нём взяли уже 900 000 человек – и наблюдали за ними 12,5 лет. Учёные учли все возможные ошибки и нюансы, которые вызывали споры и претензии до этого. В том числе они подробно разделили людей на группы по их питейным привычкам (количеству, сортам и регулярности выпивки), по физической активности, здоровью и прочему. И даже после всего этого J-кривая сохранилась: те, кто пьёт очень мало алкоголя, имеют чуть меньшую смертность от всех причин по сравнению с трезвенниками.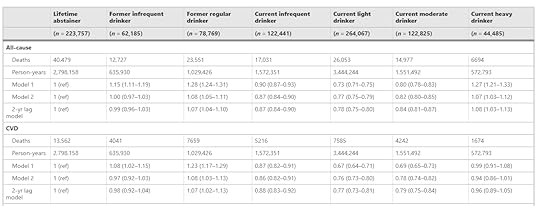
И вот главный результат. Самая низкая смертность оказалась у людей, которые пили не менее 12 бокалов вина в год, но не более 4 бокалов в неделю. И какая была разница, спросите вы? Целых 23% по сравнению с непьющими! Кроме того, у таких людей был на 32% ниже риск болезни Альцгеймера и на 38% ниже риск диабета. Что касается рака и несчастных случаев, обычных спутников алкоголя — не было заметного увеличения ни того, ни другого. Вероятно, потому, что доза для этого была слишком невелика.
Ну и, конечно, можно было увидеть, что те, кто пьёт больше, умирают гораздо чаще. Например, возьмём людей, которые принимают много доз алкоголя за один вечер один или несколько раз в неделю. У них шанс смерти от рака вырос на 20%, от несчастных случаев на 40%, а смертность в целом на 15%. И у всей группы пьющих регулярно (для мужчин это больше 14 бокалов вина в неделю, для женщин больше 7) вероятность смерти от рака выросла на 24%, от несчастных случаев на 48%, а общая смертность на 7%.
Если что, про «бокалы вина» я говорю условно: в медицине алкоголь принято измерять в «дринках» или порциях. Например, в США такая порция содержит 14 грамм чистого спирта — и это как раз бокал вина, пол-литра пива или стопка водки.
Что ж, звучит исчерпывающе. Что тут возразишь? Тема закрыта. Но я не просто так упомянул, что на эту тему идут серьёзные споры. В авторитетных научных журналах выходили метаанализы. Некоторые из них не находили упомянутого положительного эффекта от малых доз алкоголя. И это то место, которое для меня выглядит очень странным. Какой-то парадокс: самые крупные, качественные исследования на сотнях тысяч человек показывают, что «эффект подковы» есть. А метаанализы — обзоры таких же эпидемиологических исследований, причем тоже в серьезных научных журналах — показывают, что эффекта нет.
Как так?
Обычно считается, что метаанализ — король доказательств. Взяли не одно исследование, а, скажем, 100, и обобщили. Но есть проблема: если взять десять хороших исследований и к ним приплести 90 плохих... может получиться ерунда. Плюс метаанализ оставляет автору опредёленное окно для хитростей. Можно выборочно брать сами статьи для анализа – или вольно их интерпретировать. В статье 2016 года эпидемиолог Джон Иоаннидис приходит к выводу, что “Производство систематических обзоров и метаанализов достигло масштабов эпидемии. Возможно, подавляющее большинство систематических обзоров и метаанализов являются ненужными, вводят в заблуждение и/или противоречивы”.
Давайте посмотрим один из таких метаанализов в The Lancet. Если приглядеться к тексту, мы увидим странную вещь. Авторы делают чёткий вывод, что, чем больше алкоголя, тем вреднее — без исключений. То есть безопаснее всего не пить никогда. Но если посмотреть на графики, которые они приводят в своей же собственной статье… То на них отсутствуют точки напротив нуля! Они убрали с этих графиков совсем непьющих — ту самую точку, которая и создавала левый рог «подковы» у Долла.
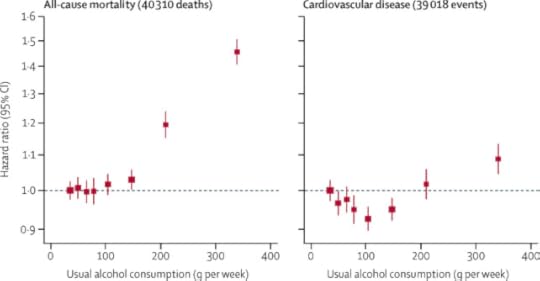
Почему же так произошло? Может, не было данных? Были! Их можно найти во вспомогательных материалах к статье. Читаем их же выборку – и видим, что никогда не пившие люди таки имели большую смертность, чем пьющие чуть-чуть и умеренно. То есть в исследованиях эффект есть! Но чтобы получить нужный вывод, эту точку просто убрали из основной статьи.
И самое обидное, что по СМИ разлетаются именно выводы этих метаанализов: «Всего пять порций алкоголя в неделю сокращают вашу жизнь». Вроде бы даже смешно обсуждать такую хитрость, но факт остаётся фактом. Ну и ещё маленькая деталь: размер выборки. Во всем метаанализе в The Lancet 83 статьи, и в сумме они охватили 600 000 человек. А только одно исследование, которое мы описали выше — на 900 тысяч.
Почему это ассоциируется у меня с профессором Ждановым? Одно из оправданий, которое я часто слышал в его адрес — он несёт чушь, но это «ложь во спасение». Может, и авторы метаанализа тоже так решили: «Ох, как-то нехорошо получается. Мир-то не чёрно-белый. Но вдруг, если мы напишем, что алкоголь в малых дозах полезен, мы убедим людей пить? А ведь это такая проблема, вот и ВОЗ говорит, что он убивает 3 миллиона человек в год. Давайте тихонько уберём эту подкову на графике, ведь это ради блага людей!»
И такой паттерн поведения я замечаю во многих статьях. Вот, например, статья, изданная в очень приличном издательстве Jama. Они смотрели на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и на то, как алкоголь влияет на разные факторы сердечного здоровья. И в одном месте авторы пишут: «Мы смогли воспроизвести хорошо известные подковообразные J- и U-кривые для разных факторов — от повышенного давления до инфаркта и инсульта. Однако мы заметили, что люди, которые пьют умеренно, отличаются более здоровым поведением, чем просто непьющие: у них лучше общее здоровье, они меньше курят, они стройнее, они чаще занимаются физкультурой и едят больше овощей, а ещё субъективно лучше себя чувствуют». Ну и, мол, с учётом этих факторов мы смягчили эффект умеренного употребления алкоголя. В итоге результат остался «статистически незначимым».
Действительно, такие поправки на образ жизни обязательно нужно делать. Например, надо учесть дополнительный вред от курения или дополнительную пользу от спорта. Нельзя ведь напрямую сравнивать смертность неспортивных пьющих со смертностью спортивных малопьющих. Может, вся польза была от спорта, а не от дозы выпивки. Все эти поправки делались и в исследовании на 900 000 человек. Проблема в другом: один из дополнительных факторов, который измеряли в этой статье — это «субъективное самочувствие». Надо сказать, что субъективное самочувствие на удивление неплохо отражает реальное физическое здоровье человека и предсказывает смертность. Но ведь вся идея исследования — найти пользу для здоровья. А если есть предполагаемая польза для здоровья (в данном случае от умеренного потребления алкоголя) — тогда очевидно будет улучшаться и самочувствие. Это замкнутый круг.
Понимаю, звучит очень запутанно. Сейчас объясню. Допустим, мы предполагаем, что умеренные дозы алкоголя могут улучшать здоровье. Из этого следуют две вещи. Первое: у тебя ниже риск всяких заболеваний и смерти, ты реже болеешь и умираешь. Это то, что мы ищем — твёрдые факты. Второе: у тебя улучшается субъективное самочувствие. Это неизбежно — ведь чем здоровее твоё тело, тем лучше ты себя чувствуешь. Но эти ребята взяли фактор субъективного самочувствия — и пересчитали все данные так, чтобы выкинуть этот эффект!
То есть этой поправкой они загнали себя в тупик. По сути, они пытаются найти такое изменение в здоровье у умеренно пьющих, которое бы понижало смертность… но не улучшало их самочувствие. Что звучит абсурдно. При таком анализе, даже если бы алкоголь был чудо-лекарством, которое лечит все болезни — эффект всё равно оказался бы нулевым. Ведь если наше чудо-лекарство работает и лечит от всех болезней — тогда ваше субъективное самочувствие выросло бы до небес. И авторы такие: «Нет, это лишний фактор, нужно его вычесть».
Почему авторы так сделали? Можно только гадать. Я предполагаю, что за этим стоял тот же самый мотив, что и в The Lancet: давайте не говорить скандальных вещей, а то прослывём «учёными, которые рекомендуют людям пить». Лучше сыграем безопасно и не будем рисковать. Обратите внимание, что я никого не обвиняю в злом умысле. Как говорил Пелевин: «миром правит не тайная ложа, а явная лажа».
Как видите, тема алкоголя действительно очень интересная. В ней есть много мифов, но много важной, хоть и спорной науки. Лично мне наиболее правдоподобными кажутся результаты крупнейших эпидемиологических исследований, которые говорят: много алкоголя – плохо, а чуть-чуть алкоголя — как минимум не страшно, а может, даже хорошо. Тем более, что уже вышли отдельные исследования, где описаны именно механизмы, благодаря которым алкоголь — возможно — даёт положительный эффект для здоровья.
В общем, мораль заключается в следующем. Конечно, злоупотребление алкоголем — это очень плохо. Но это не значит, что нам нужно скрывать от широкой общественности исследования, которые делают общую картину не такой чёрно-белой. Мне кажется, эта позиция не должна помешать людям с алкогольной зависимостью бороться с ней. Безусловно, для них лучше всего никогда больше не пить.
Но, как мы выяснили, такие люди в меньшинстве. А для большинства людей ситуация иная. Если вы пьёте в меру уже сейчас — то можете порадоваться: скорее всего, вы по крайней мере не сокращаете свою продолжительность жизни.
July 17, 2024
Жизнь без боли
Тысячи лет люди мечтают избавиться от боли и придумывают легенды о тех, кто умел ее игнорировать. Например, философ Ницше всю жизнь мучился от страшных головных болей и даже построил вокруг преодоления боли свою философию. Джон Кеннеди страдал от хронической боли, из-за которой ему было тяжело самостоятельно одеваться. А Леди Гага страдает от фибромиалгии — мучительной боли во всём теле.
Боль у людей выполняет две функции:
Чтобы организм незамедлительно принял меры по защите от источника боли — то есть от потенциальной угрозы нашему здоровью. Например, мы сразу отдергиваем руку от горячей сковородки;
Для обучения: чтобы мы стали избегать такого поведения, которое приводит к появлению боли. Например, однажды обжёгшись, я буду с опаской относиться к сковородкам на плите и не буду за них бездумно хвататься. А однажды случайно включив телеканал РЕН-ТВ… я буду осторожней с кнопкой на пульте. Или вообще выкину телевизор.
Боль бывает разной — например, острой или хронической. Вернемся к примеру с хватанием горячей сковороды. Что происходит на уровне нервной системы? Рядом со спинным мозгом есть скопления нейронов — ганглии. В них есть множество нейронов, отвечающих за восприятие боли. У каждого — два длинных отростка:
один отросток тянется на периферию — в любое место, где мы можем воспринимать боль (в данном случае в руку);
а другой отросток уходит прямо в спинной мозг.
Итак, высокая температура подействовала на нервные отростки в руке, сигнал пробежал до ганглия, а оттуда по другому отростку улетел внутрь спинного мозга. В спинном мозге сигнал встречают нейроны второго порядка. Они принимают весточку от чувствительного нейрона из ганглия и пересылают её дальше, в мозг. При этом многие реакции на боль начинаются уже на уровне спинного мозга, не дожидаясь «ответа из центра». Собственно, так и происходит, когда вы отдёргиваете руку от горячей сковородки.
«Весточка» про боль ещё только движется в головной мозг, а спинной уже начал реагировать. Рука начала двигаться ещё до того, как вы осознали, что вам больно. Это нужно для оперативности, чтобы долго не обдумывать решение. Тем временем сигнал про боль доходит до головы: сначала весточка прибывает в таламус, а оттуда ее пересылают в соматосенсорную кору, которая отвечает за наши телесные ощущения.
Донести боль до сознания крайне важно — в воспитательных целях. Чтобы в следующий раз мозг внимательней следил за тем, что мы там хватаем. При этом всё наше тело «распределено» по соматосенсорной коре мозга: можно даже нарисовать, какая часть коры отвечает за сигналы из какой части тела. Обратите внимание, что размеры частей пропорциональны не размеру самих частей тела, а их чувствительности. Поэтому язык, губы и пальцы рук большие, а нога или бедро — не очень. Это различие в чувствительности ещё изобразили в виде так называемого «сенсорного гомункула»: чем крупнее часть, тем больше в ней плотность нервных окончаний. Не путайте с «гомункулом», которого делал дома один блогер.
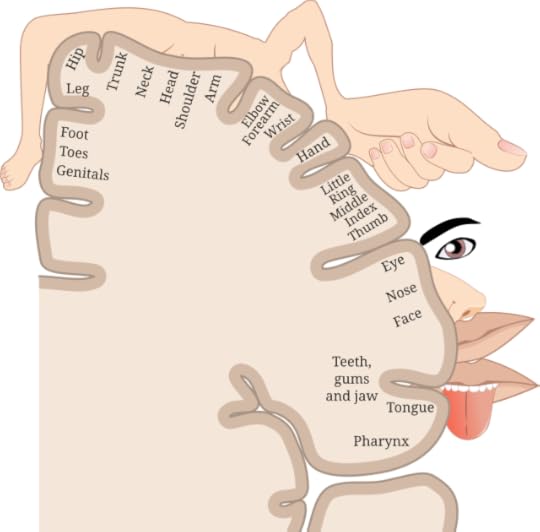
Есть очень простой тест на чувствительность частей тела, который вы можете сделать у себя дома. Закройте глаза и попросите друга слегка прикасаться к вашему телу двумя спичками или ватными палочками, расположенными на небольшом расстоянии. Задача — понять, прикасаются к вам одной палочкой или двумя. Если прикасаться к пальцу, то вы поймёте это, даже если палочки сведены совсем близко. А вот на спине понять, что прикосновение двойное, можно только если разнести палочки широко — потому что там ниже плотность чувствительных окончаний.
Вообще наши ощущения довольно легко обмануть. Мой любимый трюк такой: скрещиваете пальцы, подносите к носу и трете его. Кажется, что у вас два носа! Это работает потому, что мозг привык, что указательный палец ближе к большому, чем средний.
Но вернемся к боли. Есть крайне любопытный факт: сообщения про боль идут не только вверх к мозгу, но и обратно вниз! Так называемый «нисходящий путь» идёт в обратной последовательности: от головного мозга к чувствительным нейронам в ганглиях. Мозг не хочет страдать и посылает вниз обратное письмо: «Заблокировать сигнал боли!» Тогда на уровне спинного мозга выбрасываются эндогенные опиоиды вроде энкефалинов — то есть обезболивающие типа морфина, которое выработал сам организм. Вот почему вначале боль резкая, а потом постепенно притупляется, чтобы не мешать. Это организм сам себя накормил обезболом.
Вы наверняка узнали слово «опиоиды». Этот же механизм используют многие обезболивающие препараты — морфин, кодеин, трамадол… и, конечно же, героин. Эти вещества воздействуют на те же мишени, что и нисходящий сигнал мозга (только ещё сильнее), а также на опиоидные рецепторы в центральной нервной системе. Кстати, тут можно вспомнить про эффект плацебо. Известно, что один из немногих действительно доказанных и полезных механизмов работы плацебо — это субъективное снижение боли. Принял пустышку — и вроде поменьше ноет. Так вот, исследования говорят: этот эффект достигается за счёт похожего механизма. Наш мозг ожидает, что боль должна снизиться — и выбрасывает естественные болеутоляющие. Но напомню, что серьезные болезни плацебо не лечит.
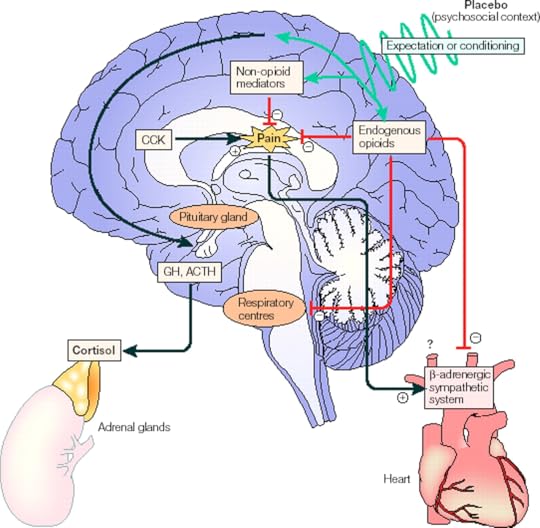
Однако в этом механизме скрывается опасная ловушка. Если повреждение тела очень сильное, может произойти такое: боль «застрянет» и станет хронической. Ведь нервная система пластична — нейроны умеют «запоминать» связи, по которым активно идут сигналы, и укреплять их. В итоге может сформироваться гипералгезия. Это избыточная боль. Представьте, что вас слегка погладили, а это вызвало острые мучения.
Представьте: пациенту ампутировали руку, но она продолжает болеть. Её даже может сводить судорогой. Всё потому, что сами нейроны, которые обрабатывают боль, никуда не делись. Руки больше нет, а эти клетки остались: и те, что рядом с позвоночником, в чувствительном ганглии, и клетки головного мозга, с которыми они связаны. Не получая сигналов по привычным каналам, нейроны головного мозга, распознающие боль и другие ощущения, могут начать получать их из других мест. Нейроны, получающие сигналы от руки и от губы, находятся рядом. Люди с отсутствующей рукой часто испытывают прикосновения в руке, когда их трогают за губу.
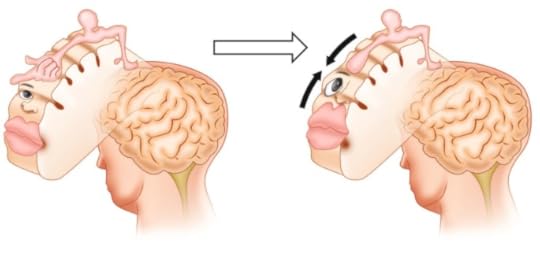
Кстати, когда мы говорим, что у нас «болит голова», нам кажется, что это болит мозг. Но мозг болеть не может — в нём нет чувствительных отростков болевых нейронов! Именно поэтому многие операции на мозге проводят без анестезии: если сделать в черепе дырочку и ковыряться в мозгу, человек не будет этого чувствовать. Зато хирурги могут всё время следить, в порядке ли когнитивные функции пациента, задавая ему вопросы. Пациент даже может играть на саксофоне, пока у него ковыряются в мозге! В общем, когда у нас болит голова – это боль защитных мозговых оболочек, в которые обёрнут мозг. Между черепом и мозгом их несколько слоёв.

В 2019 году американцы нашли новый орган человека – и опубликовали результаты в Science. Орган назвали ноцицептивный глионейральный комплекс. Звучит сложно, расшифровывается просто: ноцицепция — это ощущение боли, а глия — это вспомогательные клетки нервной системы, которые окружают и защищают нейроны.
Долгое время учёные считали, что чувствительные нейроны воспринимают боль напрямую — непосредственно голыми отростками. Например, за зрение отвечают специальные светочувствительные клетки — палочки или колбочки. А тут никаких отдельных клеток не нужно: нагрели, отдавили, перерезали сам отросток нейрона — родился сигнал. Например, теплочувствительные нейроны в нашей коже чувствуют температуру прямо голым отростком. Но оказалось, что в случае с чувством давления и боли в коже все происходит несколько иначе — и специальные клетки все-таки есть! И что удивительно: это шванновские клетки. Вообще шванновские клетки — это просто «клетки поддержки», самые обычные глиальные клетки, из которых состоит обёртка вокруг отростков нейрона, как изоляция у провода. Они нужны для ускорения передачи сигналов. А американские специалисты открыли особые шванновские клетки: они прорастают в толщу кожи тонкой сеточкой. Эта сеточка становится чувствительным сенсором механических воздействий — например, давления.
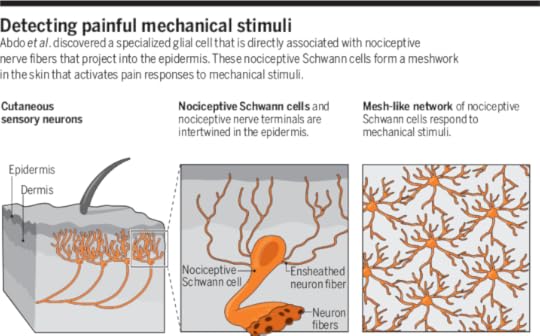
Почему это открытие важно? Чем лучше мы понимаем, как рождается боль, тем лучше умеем с ней бороться. И раньше наши обезболивающие были основаны на идее, что боль чувствуют только голые отростки. А тут взяли и открыли целый новый мир сенсоров. И теперь эти шванновские клетки могут стать новой мишенью для лекарств или терапий, чтобы уменьшить боль. И потом, тело обычных «болевых» нейронов находится у спинного мозга. До них трудно добраться, да ещё разобраться, где какой. Например, при сильной боли людям делают нервную блокаду: болезненный укол в крупный нерв, чтобы временно разрушить его и отключить от боли целую ногу или полтела. А эти шванновские клетки находятся прямо в том же месте, где больно. Значит, на них можно воздействовать локально. Причём не трогая сами нервы.
Хорошо, а какие еще бывают способы восприятия боли? Пожалуй, самый простой — это система обнаружения повреждения клеток. Например, если в ваш палец вошёл топор. Когда клетка разрушается и погибает «не своей смертью», компоненты и вещества, которые были у неё внутри, оказываются снаружи. Одно из таких веществ — АТФ. Это своего рода энергетическая валюта организма, топливо, которое используется в разных метаболических процессах (например, мы тратим АТФ, когда бегаем). Внутри клеток этого АТФ много, а между клеток — мало. Поэтому АТФ — универсальный сигнал повреждений.
Представьте себе улицу, полную автомобилей: в каждом из них есть бензин, но он почти никогда не оказывается снаружи. А если видна лужа и воняет бензином — значит, что-то где-то сломалось. Так и АТФ: если во внеклеточном пространстве его много, тут погибло много клеток — значит, организм повреждён. Отросток нейрона чувствует это и посылает в мозг сигнал боли.
Чтобы засечь избыток АТФ, на поверхности клеток есть специальные чувствительные белки, которые называются P2X-рецепторы. Ещё клетки реагируют сигналом боли на высокую температуру. Конечно, если взяться за горячую сковородку, клетки в руке начнут гибнуть, повысится АТФ, и боль возникнет. Но хотелось бы отреагировать быстрее, чтобы повреждений было меньше! Поэтому в некоторых отростках чувствительных нейронов есть специальные белки-рецепторы, которые чувствуют именно температуру. Они называются TRP-каналами.
Причём этих рецепторов много, для самых разных температур. Например, один ощущает только холодное — температуру до 17 градусов. А другой — только горячее, от 40 градусов и выше. И тут кроется разгадка, почему нас жжёт перец и холодит ментол. Дело в том, что эти рецепторы может активировать не только температура, но и некоторые химические вещества. И многие растения специально производят эти вещества, чтобы отпугивать зверей, которые хотят их съесть. Например, капсаицин в острых перчиках воздействует на температурный рецептор TRPV1, который чувствует температуру от 42° и выше. И люди думают, что от красного перца действительно становится горячо! На самом деле никакого жара перец не создаёт, температура не меняется. Единственное реальное нагревание происходит от прилива крови к коже в этом месте. А ощущение огня — всего лишь обман наших чувств.
То же самое происходит с ментолом в мяте и эвкалипте. Он обманывает другой рецептор, который ощущает холод. Сам ментол ничего не охлаждает. Означает ли это, что перец и ментол совершенно безопасны, и их можно есть килограммами? Не совсем. Ведь эти вещества обманывают организм. И при сильном ожоге или переохлаждении тело включает защиту. Например, при высокой температуре некоторые клетки могут запустить процесс запрограммированного самоубийства. Получается, что ожога нет, а последствия есть.
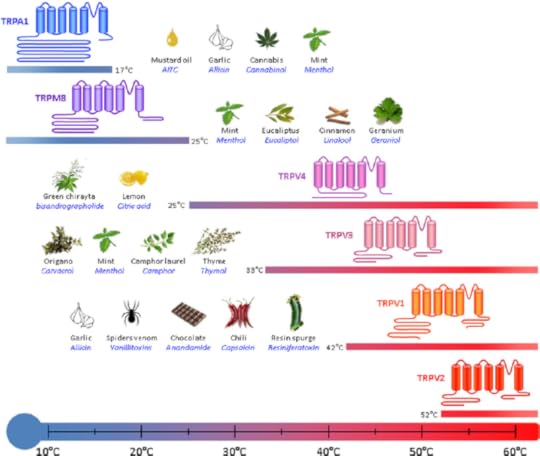
Но есть люди-мутанты, у которых один из рецепторов поломан. Например, есть люди, которые не чувствуют жжения от перца: они могут горстями есть самые острые перцы в мире и даже втирать их себе в глаза. Но их подстерегает опасность. У разных острых овощей — разные химические вещества, активирующие ощущение жара. Например, у перца это капсаицин, а у хрена и васаби — …аллилизотиоцианаталлилизотиацианат. Они действуют на разные рецепторы. Поэтому такой мутант, который всю жизнь не боялся самых острых перцев, может внезапно огорчиться, если съест целую ложку васаби.
Следующий уровень сложности — механорецепторы. Они чувствуют физическое воздействие на клетку, то есть давление (при трении, ударах, ссадинах, сдавливании и так далее). Белки, которые реагируют на давление, называют PIEZO1/2 — по аналогии с пьезокристаллами, которые вырабатывают ток, если их сжать. Такие используются в некоторых зажигалках. Как и другие белки-рецепторы, PIEZO-белки — каналы. Это такие воротца, встроенные в стенку клетки — если их открыть, они впускают в клетку или выпускают заряженные ионы. А это порождает нервный сигнал. Они похожи на бумеранг с лезвиями, в духе игры RAGE. А дырочка в середине — как раз канал, который пропускает или тормозит ионы, чтобы создать сигнал.
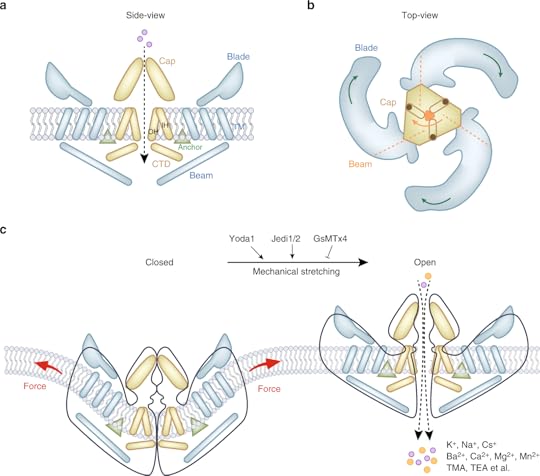
Так вот, эта форма неспроста. На «пружинки» можно надавить с любой стороны, белок деформируется — и канал раскроется. Благодаря этим пружинкам PIEZO умеет реагировать на давление.
Кстати, если у человека поломать белок PIEZO2, у него пропадает очень конкретный тип боли. Обычно, когда у нас воспаляется кожа, она становится болезненной к прикосновениям. А упомянутые мутанты этой боли не чувствуют. Вообще, у PIEZO-каналов очень много функций, ведь они чувствуют любое давление. Например, когда нам хочется пописать, это тоже работа PIEZO-каналов. Именно они измеряют наполненность мочевого пузыря.
То, как боль передвигается по телу — про ганглии, отростки и нервные пути — наука знала уже давно. А вот молекулярная боль — то, как боль возникает на уровне молекул и клеток — это очень новая и передовая область: её начали изучать меньше 20 лет назад. В процессе как раз открыли эти белки (TRP, PIEZO и другие), разобрались, как устроены эти механо- и терморецепторы и как они порождают боль. Причём такие механорецепторы нашли даже у самых простых организмов — типа грибов и дрожжей. Также у грибов нашли рецепторы TRP, которые реагируют на температуру, перец и мяту. За открытия этих генов и белков, которые связаны в том числе с болью, авторам в 2021 году дали Нобелевскую премию.
Как нам это помогает в крестовом походе против боли? Раньше мы не могли объяснить, как нейроны чувствуют боль, а теперь можем. Благодаря нобелевским лауреатам мы знаем, какие точно молекулы там работают и как. А значит, в будущем мы сможем манипулировать этими механизмами. Например, с помощью генной инженерии мы можем сделать так, чтобы клетка, чувствующая боль от температуры, стала бы вместо этого чувствовать давление. Или вообще — сделать её чувствительной к сахару или соли. Посыпал её сахаром, и стало больно! Не сыпь мне сахар на рану!
Мы видели, что мозг легко обмануть: убедить его, что у вас два носа, что у вас во рту разожгли костёр, или лёгкое касание — это удар кнутом. А в будущем генетики смогут любое ощущение конвертировать в другое: болезненное в приятное, или (для мазохистов) приятное в болезненное. Скажем, искатель приключений или солдат мог бы заменить отвлекающую боль на какое-то нейтральное ощущение (просто чтобы быть в курсе). А закоренелый мазохист мог бы заменить какое-то будничное ощущение на уколы бодрящей боли.
Итак, мы решили победить боль. Какие варианты у нас для этого есть? Очевидный ответ — обезболивающие. Лекарства вроде морфия или оксикодона имитируют тот самый приказ от мозга: «Скажи боли нет!», только гораздо сильнее. Другие болеутоляющие «перекрывают дорогу» сигналу. Допустим, в пальце боль генерируется, но сигнал не проходит по нервному отростку, и спинной мозг его просто не получает. Так работают местные анестетики типа лидокаина — как укол у зубного врача. А вот, казалось бы, самое популярное обезболивающее, Ибупрофен — работает совсем на других принципах, которые простыми словами не объяснишь. Шаг первый: при воспалении выделяются определённые вещества. Шаг второй: Ибупрофен их подавляет и не даёт им вызывать боль. Шаг третий: ПРОФИТ! Примерно по такому же принципу работают аспирин, «КетанОв» и «Пенталгин».
Следующий вариант очень хитрый. Он позволяет избавиться только от боли, но сохранить все свои ощущения в целости и сохранности. Вот есть место, где зарождается сигнал боли. Он должен поступить в ганглии, а потом в головной мозг. А что, если его перехватить посередине? Ведь болевой сигнал движется по длинному нервному отростку: от кончика, где что-то сдавило или нагрелось, сигнал должен пройти весь путь до позвоночника. Для этого по всей длине нерва должны открываться по цепочке, один за другим, натриевые каналы. В нервной системе есть много разных типов этих натриевых каналов — они служат для разных функций. И если перекрыть их все, будет полный паралич: не только боль, а вообще ничего не будет передаваться. Именно так работает яд знаменитой рыбы фугу, тетроадотоксин: перекрывает все натриевые каналы. Но, к счастью для нашей задачи, болевые сигналы в основном передаются по одному каналу, который больше ни для чего не используется.
И бывают люди-мутанты, у которых поломан именно этот натриевый канал! У них всё работает: мозги, нервы, все виды ощущений. Но вот боли они совсем не чувствуют — с рождения не знают, что это такое. При этом учёные смогли обращать этот эффект. Есть лекарство налоксон — его используют как антидот при передозировке героином. И если опиаты типа морфия и героина выключают боль, налоксон может её «включить». Эту гипотезу проверили. Учёные нашли женщину, которая никогда не испытывала боли. Её жгли горячим лазером — ноль реакции. Но когда она добровольно приняла налоксон — то впервые в жизни смогла почувствовать боль! Разгадка в том, что механизм боли у таких людей всё же присутствует, но очень сильно подавлен природными обезболивающими. А налоксон нейтрализовал их и усилил сигнал.
Авторы исследования говорят, что это открытие может привести к прорыву в терапии хронической боли. Если подавить у обычного человека тот самый натриевый канал, можно добиться полного блокирования боли, давая людям совсем небольшие дозы опиатов — то есть снизить побочные эффекты и уберечь их от зависимости.
Итак, мы увидели, что боль можно выключать на разных уровнях.
Можно отключить генерацию боли прямо в рецепторах за счёт мутаций;
Можно заставить мозг выделять болеутоляющее;
А можно «перехватить посылку в пути» — не дать нервам доставить болевой сигнал в спинной мозг (при этом пропускать все остальные ощущения).
Ну и в крайнем случае можно вырубить человека. Кстати, хороший вопрос: а ощущает ли человек боль, если находится без сознания — например, под общей анестезией? Что, если он в деталях чувствует, как ему вырезают аппендикс — только ничего сделать не может? Ответ — нет, не чувствует. Грубо говоря, посылка отправляется, она доходит до спинного мозга и стучится в него — но там закрыто; некому принять посылку и обработать сигнал. В пользу этого говорит то, что во время операции тело не проявляет никаких реакций на боль, даже рефлекторных. То же самое при местной анестезии: хотя скальпель наносит нам травмы, мы не испытываем боли.
Так что же нам мешает отключить людям боль навсегда? Не зря говорят: «бойтесь своих желаний». Для большинства людей, родившихся без чувства боли, это не сверхспособность, а колоссальная проблема. Иногда с летальным исходом. Младенцы грызут себе пальцы и губы до крови. Взрослые постоянно получают порезы, ушибы и ожоги, не замечая этого. Без «одергивающего» чувства боли они не учатся осторожности в движениях, и поэтому чаще ломают себе конечности и пальцы. В одном из описанных случаев женщина с отсутствием боли несколько дней хромала, а потом обратилась к врачу — и оказалось, что у неё сломана кость.
А бывают вообще истории как из фильмов ужасов. У детей иногда встречается жуткое генетическое заболевание, «синдром экскориации средней зоны лица у малышей». Дело в том, что боль напрямую связана с зудом: чтобы почесаться, мы по сути царапаем себя, причиняем себе боль, и так зуд проходит. То есть процесс чесания останавливается за счёт ощущения боли — иначе бы мы чесались бесконечно. У этих детей из-за мутации в одном из генов отсутствует определённый тип боли: именно тот, который обычно «блокирует» зуд. Из-за этого бедные младенцы начинают царапать себя до крови, и на первом же году жизни наносят себе чудовищные раны вокруг носа и глаз.
Но остаётся последняя надежда на жизнь без боли. Описаны люди, которые чувствуют боль — но не испытывают от неё заметного дискомфорта. Они относятся к ней равнодушно. Это тоже несет неприятные последствия. Например, описан случай девочки, которая в возрасте 8 лет обратилась к врачам из-за боли в ноге. Врачи предположили, что у нее онкологическое заболевание, хотя знали, что недавно девочка получила травму. Просто боль девочки травме не соответствовала. Но потом выяснилось, что в детстве девочка выдергивала себе ресницы и подозрительно редко плакала. Врачи провели генетический анализ, нашли мутацию в гене натриевого канала и уточнили диагноз: все-таки это была травма.
И все же представьте, если бы мы научились выключить именно неприятное, мучительно мерзкое ощущение боли. Чтобы человек понимал, что повреждения есть, мог избегать их, но не страдал. То же самое можно было бы сделать со страхом.
Давайте проведём мысленный эксперимент. Представьте, что можно создать имитацию боли: некий сигнал, который всего лишь информирует нас о том, что боль есть. «Боль-лайт». Допустим, у нас в голове просто зажигается нейтральная «лампочка», пуш-уведомление. Или вообще цифровой помощник из кармана предупреждает: «Вам больно, будьте осторожны!» Но тут возникают проблемы. Если эта «боль-лайт» не вынуждает нас что-то сделать, не наказывает нас, а просто информирует — она не поможет нам стать лучше и обучиться безопасному поведению. Получается, что эволюция подарила нам боль как полезный инструмент. Это не наказание за наши грехи от боженьки, а способ, которым наш мозг сам себя учит жить.
При этом очень важна интенсивность боли. Сравнивая разные степени боли, мы учимся соразмерять риски и выгоду: слабую боль я потерплю за 100 долларов, большую боль – за 1 000 долларов, но есть такая, которую я и за миллион долларов терпеть не буду. Допустим, я взял в руки горячую кастрюлю со вкусным супом. Я знаю, что если уроню её, то потеряю много еды. И повар расстроится. Тогда я несколько секунд потерплю и аккуратно поставлю кастрюлю на стол. Еда для выживания важнее! Но если кастрюля слишком горячая, боль будет слишком сильной, чтобы её терпеть. Тогда болевой рефлекс перехватит контроль над моим телом: я уроню кастрюлю, каким бы вкусным ни был суп (и каким бы грустным ни был повар). Но зато спасу свои руки. Мало того, я запомню этот урок, и в будущем смогу избегать такой ситуации — и еду добывать, и ожогов не получать. Психологическая боль от осознания утраченного супа тоже поможет закреплению правильных нейронных связей.
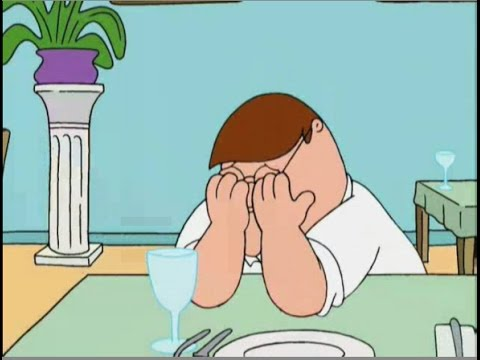
Чтобы боль работала, она должна быть… болезненной. И мы видим доказательство этому на практике: когда у людей не работает боль, они обжигаются, режутся, ломают конечности. То же самое происходит у людей, которые ощущают немного боли и равнодушны к ней: известно, что они также страдают от повышенной травматичности. Повреждения их ничему не учат. Из этого следует ещё более неожиданный вывод. Достаточно продвинутые роботы тоже неизбежно будут чувствовать боль. Подумайте сами: для крутого робота нужна система обучения. Для неё нужны системы наказания и поощрения. Чтобы они работали, боль должна быть реальной.
Полноценная имитация боли как будто бы невозможна без неприятного субъективного восприятия. А значит, если мы когда-нибудь создадим робота, который будет полноценно обучаться, избегая невыгодных для себя ситуаций, — не получится сказать, что это всего лишь «бездушная машина»! Вы скажете: подождите, робот же неживой, это существо из логики и транзисторов. Но какая разница, как именно физически реализована система наказания и вознаграждения? Если что-то плавает как утка, крякает как утка и выглядит как утка — то это утка и есть.
Поэтому на вопрос «сможет ли машина чувствовать боль» — ответ не «да» или «нет», а «обязательно»! И для неё это будет полезно — так же, как боль полезна для нас.
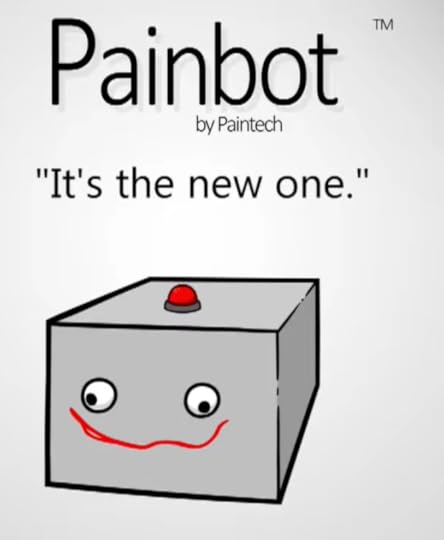
Остаётся последний аргумент в пользу выключения боли. Разве не здорово было бы выключать её по заказу — когда она уже не приносит пользы? Например, когда злодей пытает героя, или когда вам уже оторвало конечность. А я отвечу: у нас уже есть эта функция! В экстремальных условиях мозг может подавить боль. Например, в опасных ситуациях, когда боль не должна помешать нам драться или бежать. Есть даже люди, которые намеренно создают такие ситуации: прыгают с парашютом или смотрят страшные фильмы: в такие моменты мозг дает нам порцию эндорфинов, вызывающих эйфорию.
Но это лишь подтверждает мою мысль. Ограничение боли, даже временное, идет рука об руку с рискованными поступками. Так же и со страхом. Человек, не имеющий страха, ведёт себя рискованно — и в результате постоянно подвергает себя опасностям, оказывается в опасной компании. То есть в отсутствие боли и страха поведение людей меняется. Человек без боли ведёт себя не так, как тот, кто может её чувствовать.
Если бы можно было не чувствовать страх и боль, и при этом правильно себя вести — эволюция давно бы выкинула эти субъективные ощущения за ненадобностью. И боль, и страх — это жестокий кнут, который властно приказывает организму произвести верное действие. А в отчаянной ситуации, когда терять больше нечего — отключается и позволяет нам творить чудеса.
July 10, 2024
Страх глазами биолога
Но я придумал идею получше – и назвал её «антипамять». Представьте себе абстрактное племя наших далёких предков. Ночь, лес, среди деревьев блуждает монстр-барабашка, который съедает тех, “чья душа не спит”. Но в силу генетических особенностей кто-то из наших предков панически боится темноты. И предпочитает уютную пещеру по ночам не покидать.
А другие соплеменники от природы смелые и рисковые, их не пугают прогулки во тьме. Всех таких смельчаков съедает барабашка. Проходят столетия, одни поколения сменяются другими — и естественный отбор сохраняет только людей с фобией. Можно было бы сказать, что это своего рода генетическая память о барабашке, прямо как в Assassin’s Creed. Но на самом деле это генетическая антипамять – ведь никто из наших выживших предков барабашку не видел. Их не съедал монстр, они не искали ночной романтики, не тонули в озере и не падали со скалы.
Действительно, если вы не боитесь высоты, то у вас больше рисков разбиться. И выживет скорее тот, кто не подходит к обрывам – даже ради красивой фотографии на фоне скал. Получается, у нас огромное количество «неслучившейся памяти»: того, что с нашими предками не произошло..
Понятно, что на самом деле все было не совсем не так. Тем не менее, по предложенной мной логике можно сделать вывод, что так могли появиться многие страхи и фобии. Но правда ли, что наши страхи «врождённые» и заложены в нас эволюцией?
Давайте сначала разберёмся, что такое страх. Это эмоция или чувство, возникающее из-за ощущения опасности. Страх возникает перед чем-то конкретным, например, перед вами выпрыгнул тигр. Страх часто путают с фобией. Но фобия — это то, что входит в перечень расстройств DSM. Когда человек сталкивается с объектом фобии, он испытывает ужас вплоть до панической атаки. Фобия — это реакция, совершенно непропорциональная реальной угрозе. В отличие от страха она не приносит пользы и порой мешает жить. По статистике, 7% людей страдают от какой-нибудь фобии. Может, кто-то из моих читателей боится пауков или кошек, медицинских вмешательств или замкнутых пространств. Есть еще страх перед золотом, отдельными словами, противоположным полом, встречами с беременными женщинами, трупами, холодом и числом 4. Пишите в комментариях, есть ваша фобия еще интересней.
Страх, в отличие от фобии, более рационален и менее интенсивен. И, как правило, его можно преодолеть, несмотря на дискомфорт. Например, высоты боятся многие. И не напрасно: если ты карабкаешься по скале, есть риск погибнуть. К такой боязни можно привыкнуть, как привыкают альпинисты и высотники. А теперь представьте, что вы идёте по прозрачному полу над пропастью. Будет ли вам некомфортно? Да. Будут ли у вас потеть ладони? Да. Случится ли у вас паническая атака? У большинства из вас, скорее всего, нет.
А вот фобия — это непреодолимое, иррациональное ощущение. Это когда вы теряете контроль над собой и переходите в реакцию «бей, беги или замри».

Ещё одна вещь, которую нужно отделить от страха — это тревога. Страх направлен на конкретную потенциальную угрозу. Например, вполне естественно не ходить ночью там, где орудует маньяк. А вот тревога — это очень расплывчатое, туманное ощущение опасности. Когда не знаешь, что именно, как и где произойдет.
Ещё иногда люди путают со страхом вещи, которые вообще напрямую не связаны с восприятием опасности. Например, человек оказался на большой высоте, посмотрел вниз и ощутил головокружение. Это не страх, а отдельный механизм: когда вы внезапно видите огромный провал, ваше ощущение пространства нарушается, вестибулярный аппарат запутывается. При фобии высоты тоже может кружиться голова — но порой она кружится и у людей, не имеющих фобий и не испытывающих страха. Повышенное сердцебиение или потливость тоже могут быть вызваны страхом, а могут — физической нагрузкой.
Но есть интересный нюанс: сами эти телесные симптомы — ощущения, которые наше тело привыкло связывать с боязнью — могут вызывать у нас страх. Например, в одной работе учёные взяли ген светочувствительного белка, засунули его в геном мыши и сделали так, чтобы некоторые мышечные и нервные клетки грызунов производили этот белок. Такие клетки стали светоактивируемыми. Сначала учёные создали мышек, у которых можно было вызвать ускоренное сердцебиение, просто посветив через световод в мышцы сердца. Повысили пульс — и у мышей усилились признаки тревожности.
А потом сделали наоборот: посветили в мозг, чтобы подавить активность в той самой области, которая реагировала на повышенное сердцебиение. И тогда тревожность уходила. Получается, в механизме страха взаимодействуют обе стороны: тело может влиять на мозг, а мозг — на тело. А ещё получается, что потенциально можно подавить страх, как бы «приказав» мозгу не испытывать его.
Есть одно очень популярное представление, что якобы в моменты сильнейшего страха время субъективно замедляется, как в slow motion. Одни говорят, что «вся жизнь пролетела перед глазами». Другие рассказывают, что бесконечно долго наблюдали за аварией, не в силах пошевельнуться.
Учёные провели такой эксперимент: добровольцам на руку надевали экран, на котором быстро сменялись цифры — и доводили до скорости, на которой они уже не могли их различить. Затем добровольцев бросали вниз с 30-метровой высоты в страховочную сетку — то есть очень сильно пугали. И ставили участникам эксперимента задачу: постараться запомнить цифры, которые они видели. Ведь если восприятие «ускоряется», они бы увидели цифры «в замедленной съёмке».
Оказалось, что способность людей различать цифры не улучшилась. Тем не менее, субъективно людям казалось, что они падали медленно и долго: время своего падения они оценили на 36% дольше, чем время падения других. Значит, учёные показали, что ощущение замедления времени ретроспективно. В сам момент опасности мы не ощущаем «замедленной съёмки». А вот когда вспоминаем об этом моменте, мы реконструируем его во всех деталях — и замедленной становится наша память о событии.
Теперь давайте разберём, в какой степени страхи и фобии врождённые, а в какой — приобретённые.
Есть видео, где кошкам подкладывают сзади огурец, и они в ужасе подпрыгивают. Получается, у кошек есть фобия огурцов. Классическое объяснение тут такое: это на самом деле генетически заложенный в кошках страх змей. Огурец гладкий, длинный и зелёный, поэтому и пугает. Ведь вряд ли у кошки в жизни был травмирующий опыт, связанный с огурцом! А тем более со змеёй — большинство домашних кошек никогда её не видели. Это как в нашей метафоре об «антипамяти»: может быть, далёкие предки котиков, которые не боялись змей, были покусаны и съедены. А боязливые — размножились. А, может, огурцы когда-то были токсичны для кошек: как известно, все люди, которые ели огурцы в XIX веке, умерли.

Если серьёзно, у животных есть врождённые страхи. Например, мыши и крысы боятся запаха кошачьей мочи — территориальной метки хищника. Этот страх умеет «выключать» одноклеточный паразит токсоплазма: заражённая крыса начинает бежать не от запаха кошачьей мочи, а к нему. Так паразит попадает в кошку — своего конечного хозяина.
Человек – тоже животное. И логично предположить, что многие наши страхи отражают наше эволюционное прошлое. С другой стороны, мы точно знаем, что страху можно “научиться”. Так, практически любой негативный стимул – например, удар током – можно привязать к нейтральному стимулу. Как собаку Павлова научили вырабатывать слюну в ответ на лампочку, которая загоралась перед едой.
В научном мире долгое время доминировала теория, согласно которой страхи в основном приобретаются с опытом. Это кажется логичным: если на вас в детстве напала собака, вы будете за километр обходить псов и во взрослом возрасте, если в шесть лет вы упали с дерева и сломали ногу, то всю жизнь будете опасаться высоты.
Хорошо, допустим. Но как отличить приобретённый страх от врождённого? В общем, учёные опять провели исследование: взяли детей 9-летнего возраста и посмотрели, были ли в их жизни травмы, связанные с падением с высоты. Далее проверили этих же детей сначала в 11, а потом в 18 лет, чтобы понять, развился ли у них страх высоты. Так вот, выяснилось, что те дети, которые получали травмы от падений до 9 лет, меньше боялись высоты.
Почему так вышло? Самое простое объяснение звучит так: те, кто от рождения сильно боятся высоты, реже с неё падают что в 9 лет, что в 18. То есть они изначально её боялись и всегда были более осторожны. Но ещё мы знаем, что одно из самых действенных средств против навязчивых фобий — это терапия экспозицией, exposure therapy. Например, есть человек, который до смерти боится пауков. Как ему помочь справиться с фобией? Для начала пациенту надо показать нарисованного паука, затем попросить его вообразить паука. Следом – положить рядом с ним на диван игрушечного паука. И попросить потрогать игрушку! Дальше человеку надо будет посмотреть на живого паука, потрогать его рукой в перчатке, потом – голой рукой, а далее – пустить членистоногого погулять по своей руке. Рон Уизли, не благодари.

Разумеется, такая практика работает не всегда – но пока лучшего лечения от фобий специалисты не придумали. Так вот, можно предположить, что падения в детстве — это тоже экспозиционная терапия. Я упал, поплакал, увидел, что ничего в этом страшного нет. Поэтому у меня страх высоты меньше, чем у тех, кто не падал. Тем не менее, результаты описанного исследования противоречат теории о том, что все страхи — результат травмирующего опыта.
Так могут ли страхи и фобии быть врождёнными, то есть заложенными в наших генах? Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к старым добрым близнецовым исследованиям. В общем, учёные провели метаанализ этих исследований и выяснили, что наследуемость страха перед животными составляет 45%. Вклад наследственности в фобии, связанные с медицинскими вмешательствами, составляет 33%. А недавнее исследование, авторы которого изучили 4000 пар однояйцевых близнецов, выяснили: генетика сильно влияет на боязнь высоты, полётов и толпы. А вот боязнь жуков – это, согласно работе, скорее приобретённая фобия. Кроме того, специалисты выяснили, что вклад генетики в страх перед знакомствами с новыми людьми и публичными выступлениями составляет 25%.
Казалось бы, вопрос решён: страхи – по крайней мере некоторые – наследуются. Но тут есть одна сложность. Ведь генетическая компонента может работать двумя способами:
Человек может появиться на свет с врождённым страхом пауков;
А может – лишь с врождённой склонностью стать арахнофобом. То есть самого страха с рождения нет, для него нужен триггер в виде жизненного опыта.
Учёные провели ещё одно исследование, в котором приняли участие однояйцевые и разнояйцевые близнецы. Сначала им показывали картинки с пауками и змеями, бояться которых важно с точки зрения эволюции. А затем показывали треугольники, круги и так далее. Но, главное, при этом близнецов били током (учёные – не всегда милые ребята). В результате такого обучения по Павлову у подопытных появлялась физиологическая реакция страха при виде картинок. А дальше учёные сравнивали, на какие образы этот условный рефлекс сформировался сильнее, и насколько схоже формировался страх у однояйцевых близнецов. В итоге выяснилось, что генам влияют не только на сами страхи, но и на способность их приобретать.
Получается, от генов зависят не только врождённые фобии — но и то, насколько быстро и легко ты приобретёшь боязнь, если тебя чем-то пугать.
Похоже, мы склоняемся всё ближе к эволюционной гипотезе «антипамяти»: многие страхи действительно заложены в генах и достались нам от предков. Тогда есть смысл проверить, насколько эти страхи соответствуют реальным опасностям, которые грозили конкретным предкам разных народов. Прослеживаются ли там явно полезные адаптации? Например, жителю современной Европы бояться пауков и змей странно: ядовитых тварей в какой-нибудь Германии водится относительно мало. Вместе с тем, были исследования о том, какие есть страхи у людей, живущих в колыбели человечества — Африке. Оказалось, что самые частые «животные» фобии у них — боязнь змей, скорпионов, сороконожек и крупных хищников… и в меньшей степени пауков и ящериц.
И разница прослеживается. Например, сомалийцев больше пугают скорпионы, чем пауки, а вот жители Чехии чаще боятся пауков, нежели скорпионов. Авторы предположили, что у сомалийцев страх более приближен к жизни: скорпионы в среднем гораздо опаснее пауков, и в Африке их много. А вот европейцы со скорпионами сталкивались очень редко, а с пауками часто. В итоге у них произошёл перенос древнего страха перед скорпионами (который они унаследовали от предков, вышедших из Африки) на похожих существ — пауков. Как выражаются авторы, «пауки выехали на страхе скорпионов». И это было бы хорошим объяснением, откуда у нас взялась арахнофобия. Ведь большинство пауков в Европе безобидны. А вот скорпионы часто опасны.
А как насчёт фобии клоунов — откуда вообще мог взяться этот страх?

Ведь клоунов наши предки точно не видели. Надо сказать, что, несмотря на популярность коулрофобии — так называется боязнь клоунов — про неё написано всего несколько научных статей. При этом одна из них объясняет, что клоунов вообще-то стоит бояться. Авторы статьи задаются вопросом: а что, если страх перед клоунами вовсе не иррациональный? Ведь в 2016 году по всему миру были замечены клоуны, часть которых намеренно пугала прохожих. А некоторых клоунов даже видели у постелей тяжело больных детей!
Но другие, серьёзные статьи уточняют, что многие жители Запада реально страдают из-за боязни клоунов. Согласно ещё одному исследованию, фобия клоунов не связана с личным опытом, а порождена их культурным восприятием — в том числе репрезентацией в медиа. Может, вы помните, как клоуны Петербурга (клоуны Петербурга!) коллективно выступили против фильма «Оно» – потому картина формирует негативный образ клоуна. Они даже провели пикет у заксобрания!
Можно сказать, что эта ситуация противоположна огурцу и котику. Котик явно боится огурца не потому, что его этому научили — а из-за какой-то эволюционной адаптации. А вот страх клоунов появился совсем недавно. Ведь когда-то людей с детства приучали, что клоуны — это весело и нормально. А теперь постоянно шутят и даже напрямую пугают, что клоуны — маньяки, безумцы и потусторонние существа. Также это пример переноса опыта — когда мы учимся страху не на своём, а на чужом примере: нам говорят, что клоуны – монстры, и мы начинаем их бояться. Кстати, был же реальный “Клоун-убийца” – так пресса окрестила Джона Уэйна Гейси, изнасиловавшего и убившего как минимум 33 парней. Этот маньяк подрабатывал на детских праздниках, веселил девочек и мальчиков в больницах, а позже – рисовал портреты клоунов, сидя в камере смертников.
Какие еще есть попытки объяснить страх перед клоунами? Возможно, вы слышали об эффекте зловещей долины. Согласно этой гипотезе, люди боятся максимально человекоподобных роботов или кукол. Ведь с ними что-то явно не так! Вот и клоун вроде бы человек, но какой-то неестественный — и это нас особенно пугает. Есть предположение, что этот эффект обусловлен эволюционно: если человек выглядит, ведёт себя, звучит и двигается странно — возможно, он больной, сумасшедший или заразный. Он опасен. Также мы эволюционно избегаем трупов: у них тоже всё выглядит «неправильно», от позы и цвета кожи до вида глаз.
Но я тут должен немного опровергнуть расхожее понимание «зловещей долины». Похоже, что в оригинальной работе, которая прославила это понятие, немного натянули результаты. На графике из научной публикации на одной оси отмечено, насколько людям нравилось изображение робота, а на другой — насколько робот был человекоподобен. В «долине» очень мало наблюдений, гораздо меньше, чем справа и слева от нее. С тем же успехом можно было нарисовать там не провал (то есть негативное восприятие), а усреднённую прямую.
Авторы более свежих исследований утверждают, что эффект “долины” действительно работает по-другому. Людей пугает скорее то, когда вещь находится сразу в двух категориях: например, если ваш мозг распознаёт одновременно и человека, и неживую куклу. В результате мозг «подвисает» и испытывает стресс. При этом симпатичными могут быть как «почти человечные», так и довольно условные персонажи, и это тоже противоречит идее зловещей долины. По-видимому, клоуны, которыми нас пугают (в отличие от большинства настоящих, живых клоунов), тоже взламывают наши категории. Недаром в «Оно» клоун — это древнее существо, которое лишь притворяется человеком, но им не является.
А можно ли достигнуть полного бесстрашия? Мы уже обсудили, что от некоторых фобий помогает экспозиционная терапия. В последнее время в ней начали активно использовать VR. В виртуальном мире можно встретиться с любым страхом сколько угодно раз. Например, уже было немало успешных экспериментов по лечению боязни высоты в VR. Один из самых ранних прошел аж в 2001 году, через два года после выхода фильма «Матрица». А если помните, в «Матрице» тоже была такая VR-терапия: сначала Нео учили не бояться высоты, а потом — бояться агентов. Кроме того, VR оказался очень полезен для изучения самих страхов: можно в любой момент показать человеку то, чего он боится, и изучить его реакцию.
В 2019 году вышла статья, авторы которой пытались вылечить арахнофобию и боязнь насекомых показом фрагментов из «Человека-Паука» и «Человека-муравья». Вроде даже был какой-то эффект, но непонятно, насколько надежный. Борьба с Боггартом в Гарри Поттере тоже напоминает экспозиционную терапию. Но можно ли полностью избавиться ото всех страхов?
Где-то в США живёт одна женщина, известная под псевдонимом SM (её личность не раскрывается), которой посвящены десятки исследований. Дело в том, что у неё сверхредкое генетическое заболевание, болезнь Урбаха – Вите. Оно крайне неприятное: при нём легко повреждается и покрывается мозолями кожа, у пациента вечно охрипший голос… Что хуже, загрубевают ткани в некоторых частях мозга, что может приводить, например, к эпилепсии. У некоторых пациентов затвердевание происходит в височных долях мозга и в миндалевидном теле, амигдале. Именно амигдала активируется, когда возникает сильный эмоциональный стимул – например, страх – и помогает его запомнить. Из-за этого у пациентов могут быть ослаблены эмоциональные реакции.
А пациентка SM уникальна тем, что у неё почти полностью разрушено миндалевидное тело с обеих сторон — и полностью отсутствует чувство страха.
Так вот, учёные пробовали разными способами пугать эту пациентку: водили её трогать живых змей и пауков, отправляли в заброшенные дома, показывали сцены из фильмов ужасов. Кстати, по мнению учёных из Айовы, самые страшные фильмы – «Звонок», «Ведьма из Блэр», «Семь», «Сияние»… И ещё они посчитали пугающей сцену пытки из «Английского пациента». Все эти киношедевры включали SM.
Так вот, учёные ни разу не заметили у неё ни малейшего признака страха. Она и сама утверждала, что никогда его не испытывает, хотя в её жизни было много опасных ситуаций — например, однажды ей угрожал ножом грабитель в ночном парке. При этом SM знала, что такое страх: в детстве, когда её амигдала ещё не была разрушена, она могла бояться. Кстати, если вы подумали, что это унылая, скучная женщина, это вовсе не так — она крайне позитивная и любознательная. В заброшенном доме она радостно смеялась, а змею сразу взяла на руки и изучила, хотя говорила, что не любит змей.
На этом учёные не остановились и продолжили издеваться над SM. И таки нашли способ её напугать. Женщине давали вдыхать двуокись углерода: это вызывает у мозга ощущение удушения. Как известно, наш организм не чувствует недостатка кислорода. О том, что мы задыхаемся, нам сообщает избыток CO2 в крови. И тогда SM действительно пережила физиологическую реакцию страха. Субъективно она испытала настоящую паническую атаку — причём даже более сильную, чем здоровые подопытные.
Но у SM – крайне редкая болезнь, которая и вызвала полное бесстрашие. А как насчёт возможности включать и выключать страх по заказу? Я уже упоминал исследование, в ходе которого с помощью света активировали сердце мышей, а потом деактивировали участок мозга, который испытывал тревогу. Этот эксперимент придумал японский учёный, лауреат Нобелевской премии Судзуми Тонегава.
А ещё Тонегава научился редактировать память грызунов. Чтобы это сделать, нужна более сложная система. Тут нейроны вырабатывают светочувствительный белок только когда активируются. Причём этот эффект можно «выключить» специальным лекарством. А значит, мы можем сделать светочувствительными только те нейроны, которые были активны в определённый момент: включили эффект, напугали мышку, снова выключили эффект. Теперь эти нейроны становятся помеченными: если их активировать светом, вы как бы «вызываете сохранённый файл» того состояния, которое испытывала мышка в тот момент. И вот самый хитрый фокус: теперь, если поставить мышь в новую ситуацию, но при этом «загрузить» старое состояние (посветить в мозг), то два переживания склеиваются, ассоциируются.
Теперь можно бить мышь током и «записать» её страх от этого. А потом запустить в комнатку и вызвать у неё воспоминание об ударе током. Так в 2012 году Тонегава научил мышь бояться комнаты, где её не били током — как если бы это произошло. А дальше, наоборот, научил мышь избавляться от страха.
Есть такой термин, «энграмма». Звучит как что-то из фантастического романа, или из игры Cyberpunk 2077. На самом деле это группа нервных клеток, которые хранят память о каком-то событии. Можно очень условно сказать, что это единица хранения информации в мозге. Так вот, учёные нашли, где хранятся энграммы с воспоминанием о страшных событиях: в гиппокампе. И команда Тонегавы научилась прицельно метить эту энграмму! Теперь они могли активировать её в любой другой ситуации: посветили в мозг и вызвали беспричинный страх — научились «включать» страх по команде. А затем они научились перекодировать эту «энграмму страха» на противоположное по значению состояние. Как?
Очень просто: те клетки, в которых записан обученный страх, они стали активировать в приятной, комфортной ситуации – и перезаписали поверх страха удовольствие. Теперь у мышки та же ситуация, которая раньше вызывала страх, ассоциировалась с удовольствием. То есть команда Тонегавы научилась и включать, и выключать приобретённый страх.
А вскоре уже другие учёные достигли ещё более впечатляющего результата. С помощью онтогенетического подхода они научились подавлять активность клеток мозга, участвующих в обучении страху. В результате учёным удалось сделать так, чтобы мышь не училась бояться. Даже когда она испытывала негативные чувства вроде боли, ей светили в мозг — и страх «не записывался в память».
Возможно, очень скоро мы сможем предотвратить появление страха и у людей — или стирать память о страхе в прошлом. Представляете себе такую сессию терапии от посттравматического синдрома? Прошёл процедуру — и забыл, как не бывало. Фантастика! А желающие смогут даже изменить ассоциацию с пугающей ситуации на положительную и желанную — хотя это и может быть весьма опасно.
Допустим, в будущем мы научимся побеждать любые страхи. Но стоит ли нам это делать? Мне кажется, что нет. Да, мы часто воспринимаем страх как негативную эмоцию, как что-то плохое и вредное. А в бесстрашии видим добродетель. Но страх — это очень важный механизм, который не позволяет нам делать всякую опасную ерунду. Не просто так его придумала эволюция.
Да, иногда этот механизм ломается, и страх становится иррациональным, как в случае фобий, но это скорее исключение. К тому же мозг не всегда точно определяет, чего стоит бояться, а чего – нет. Может быть, порой лучше перебдеть, чем недобдеть: жизнь-то у нас одна, а мир полон неизвестности. Умрёшь — и гены следующему поколению уже не передашь. Кстати, пациентка SM стала за свою жизнь жертвой множества преступлений и опасных, травмирующих ситуаций. В частности, из-за отсутствия страха перед людьми она легко и дружелюбно общалась со всеми подряд. Ей было сложно отличать, кому стоит доверять, а кому нет. Также она не различала страх в мимике других людей и не чувствовала личного пространства. В результате она связывалась с опасными людьми, ей угрожали ножом и пистолетом, она чуть не погибла от домашнего насилия.
Аналогичным образом описаны случаи про людей, которые лишены ноцицепции — ощущения боли. Казалось бы, это тоже здорово: не страдать от боли. Но такие пациенты постоянно рискуют сильно поранить своё тело: обжечься, порезаться, удариться, отсидеть конечность. Им приходится постоянно крайне тщательно осматривать себя, чтобы что-то не загноилось. Боль — это верный друг, который защищает нас от тысяч опасностей и сохраняет нас здоровыми и целыми. Так и страх защищает нас от множества опасных ситуаций, в которые лучше не попадать.
Список литературы:
https://docs.google.com/document/d/12Hx5TlakTKnh9lZS16dkf0ozExybNS1aRjGrQhqcMdg/edit
July 3, 2024
Оземпик: можно ли похудеть с помощью таблетки
История такая: датская фармкомпания Novo Nordisk разработала новое лекарство от диабета, «Оземпик». Оказалось, что оно также приводит к потере веса — по сути, лекарство стало первой в истории научно обоснованной, достаточно безопасной «таблеткой для похудения». Вокруг «Оземпика» начался огромный ажиотаж: его стали подделывать, возить контрабандой, назначать из-под полы, о нём говорит весь TikTok и YouTube. Одновременно появилась информация о том, что не всё так просто: у «Оземпика» страшные побочные эффекты, которые могут человека искалечить.
И наконец в конце 2023 года авторитетный журнал Science назвал «Оземпик» прорывом года в науке. Но не за возможность похудеть. И даже не за пользу для диабетиков. А за что?
Итак, из сегодняшнего поста вы узнаете:
Откуда берется ожирение;
Насколько полнота зависит от генетики;
На что готовы люди, чтобы сбросить вес;
Как на самом деле работает «Оземпик»… и почему он стал сенсацией дважды.

Вообще похудение — лучший пример того, как недобросовестные люди используют ошибки нашего мышления. Тысячи диет, зачастую вредных и опасных, мифов и суеверий — иллюстрация того, насколько важно рационально относиться и к чужим заявлениям, и к собственным эмоциям.
Многие считают, что у людей с лишним весом проблемы с силой воли. Этакий признак деградации человечества: вот раньше были люди-титаны, а теперь жизнь стала лёгкая, народ пошёл ленивый, прожорливый, глупый, вот и толстеют. Никаких лекарств толстякам — пусть тренируют выдержку! Но я с этим не согласен. Во-первых, нравится нам это или нет, избыточный вес — это реальная, масштабная проблема для множества стран: она касается каждого третьего человека на планете.
Считается, что в США лишний вес у 70% взрослых, а в Европейском Союзе больше половины граждан страдают от ожирения. По свежим данным ВОЗ, в России лишний вес у каждого четвёртого. Всего по миру в 2016 году с проблемой лишнего веса столкнулись 2 млрд взрослых людей, ещё 650 млн страдали от ожирения. Это в три раза больше, чем в 1975 году. Даже среди детей и подростков ожирение встречается у каждого пятого.
Обратите внимание: лишний вес и ожирение — не одно и то же. Лишний, или избыточный вес — это когда индекс массы тела от 25 до 30 единиц. А ожирение, при котором вес уже угрожает здоровью — если индекс массы тела выше 30. И эта угроза достаточно серьёзная. Согласно исследованиям, индекс массы тела 30–35 (то есть ожирение первой степени) в среднем отнимает у человека не меньше 3 лет жизни, а индекс выше 40 отнимает целых десять лет.
В общем, ожирение — большая медицинская проблема. Она снижает качество жизни, а ещё повышает риск диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. И, как мы недавно узнали, риск смертности при ковиде. Поэтому, что бы вы лично не думали о полных людях, это почти сорок процентов всего населения Земли. Они имеют право на здоровье точно так же, как человек с больным зубом или аппендицитом.
Есть и вторая причина, по которой нужно искать безопасное лекарство от ожирения. Люди предпринимают попытки сбросить вес уже тысячи лет. И всё это время им впаривают множество невероятных методов и хитростей, которые далеко не безобидны — и порой приводят к трагичным последствиям.
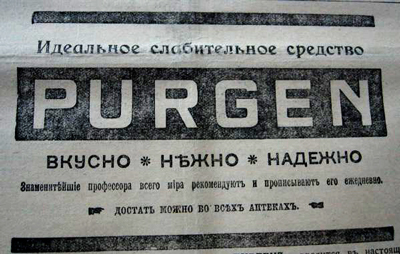
Так, сейчас продаются тысячи разных БАДов для похудения, состав которых никак не регулируется. Из-за этого в них часто добавляют лекарства, которые уже запретили к продаже. Например, слабительное фенолфталеин, снятое с продажи из-за повышения риска рака. Или сибутрамин — он действительно снижает аппетит и повышает настроение, но бонусом идёт повышенный риск инфаркта и инсульта.
И наконец, старые добрые амфетамины. От них тоже пропадает аппетит. В США в 50-е годы был целый бум амфетаминовых средств для похудения. Но они используются и сейчас: в 2016 году врачи описали случай 35-летней женщины, которая думала, что принимает натуральную спортивную добавку — а получила обширный инфаркт и положительный тест на амфетамины. Бывали даже примеры опасных сертифицированных лекарств от ожирения. На фоне приема популярной в 90-е годы комбинации для похудения фенфлурамин/фентермин («фен-фен») у многих людей возникали нарушения работы сердечных клапанов (известны даже смертельные исходы). Лекарство отозвали, а у производителя до сих пор пытаются взыскать 14 миллиардов долларов.
Рука об руку с физическим вредом от ожирения идёт вред психологический. Расстройства пищевого поведения — анорексия и булимия — смертельно опасны для человека, могут погубить его здоровье и жизнь. Они приносят миллионам людей гораздо больше вреда, чем само ожирение и тем более небольшой лишний вес.
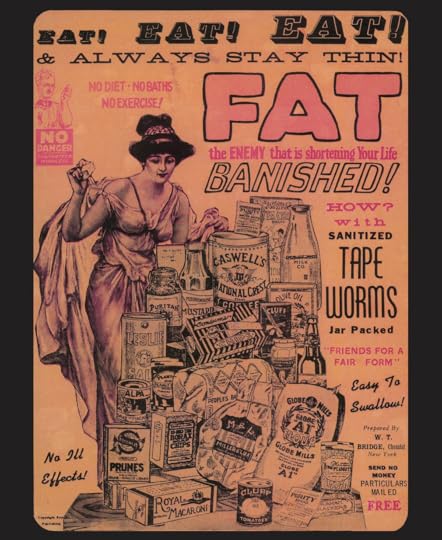
Ожирение — это вовсе не какая-то новинка, как многие думают. Это не болезнь современной эпохи. Ещё в XIX веке вошла в моду болезненная, чахоточная худоба. Ради неё люди так же хватались за чудесные диеты и волшебные средства. Тогда в них добавляли мышьяк и стрихнин — якобы чтобы «ускорить пищеварение». Понятно, что от ядов люди хирели и тощали. А некоторые принимали слишком много таблеток и погибали. Кто-то даже намеренно заражал себя глистами, яйцами ленточного червя. Считалось, что червь будет съедать часть калорий, и при том же рационе можно будет похудеть.
Сейчас у нас есть отличные антигельминтные средства, которые могут надёжно вывести паразитов. А тогда существовала целая куча народных поверий про избавление от глистов. Например, что их можно выманить из тела молоком или стейком! Молоко нужно было поставить перед лицом человека, поморив его перед этим голодом. Учуяв молоко, червь поднимется, вылезет из горла — тогда отодвигайте блюдце дальше и дальше, чтобы глист вылез до конца.
Другой рецепт назывался «29 стейков и молоток»: 29 дней подряд нужно было есть жирный стейк, а на тридцатый воздержаться. Тогда ночью червь высунется из заднего прохода — «где мой стейк»? Тут-то его и стукнут по голове молотком. Это мне напоминает историю, как я в детстве делал ловушку для лепреконов. Ловушка состояла из воздушного шарика и коробки. Лепрекон придет надувать шарик, а мы его коробкой закроем.

Увы, кое-где до сих пор торгуют яйцами паразитов. В 2022 году врачи изучили случай девушки, которая в надежде похудеть купила пилюли якобы с яйцами бычьего цепня. К сожалению, вместо яиц бычьего цепня (который не настолько опасен для человека) ушлые китайские лекари положили в капсулы яйца свиного цепня, личинки которого могут вызвать цистицеркоз. В итоге сотни личинок червей расплодились у девушки везде: в мозгу, мышцах, печени, языке и даже на лице — принеся ей немало страданий. К счастью, сейчас не XIX век, и после курса антигельминтных препаратов девушка выздоровела.
В общем, люди готовы идти на потрясающе идиотские вещи, чтобы похудеть — и потом бороться с последствиями своего похудения. И в обозримом будущем это вряд ли изменится. Поэтому рациональный выход со стороны учёных — изобрести действенную и безопасную терапию против ожирения.
В 1990-х годах учёные обнаружили, что, если давать мышам лептин — гормон насыщения — они начинают меньше есть и худеют. Люди загорелись надеждой: вот оно, лекарство для худобы! Компания Amgen срочно выкупила патент у изобретателя за 20 миллионов долларов. Но оказалось, что у большинства людей этого гормона и так вырабатывается вдоволь. Лечение лептином помогло только редким людям, у которых из-за врождённой мутации была нарушена выработка этого гормона. Однако история с лептином — явный пример того, как генетика влияет на избыточный вес. А что, если есть и другие гены или гормоны, которые влияют на наше пищевое поведение?
Естественно, я как биолог прежде всего пошёл смотреть: может, уже нашли генетические варианты, которые надёжно ассоциируются с полнотой? Как обычно, на помощь пришли близнецовые исследования (когда берут пары генетически идентичных и неидентичных людей и смотрят на их различия в ходе жизни). Они показали, что наследуемость ожирения составляет от 40 до 70%. То есть да — генетика сильно влияет на вес человека. Можно сказать так: наш вес примерно в равной степени зависит от генетики и образа жизни. Если мы видим человека с ожирением, высока вероятность, что от лишнего веса страдают и его родственники.
Получается, дело закрыто? Как минимум наполовину наш вес определяют гены. Ничего не поделаешь. К счастью, есть нюанс. «Генетическое ожирение» делится на два очень разных типа. Первый тип — это моногенное ожирение. Его активируют очень конкретные генетические мутации, которые мы можем определить. Такое ожирение проявляется с самого детства, оно тяжёлое, с ним почти невозможно справиться. Спорт и диеты тут особо не помогут, нужно лечение. В общем, моногенное ожирение — тяжёлое врождённое заболевание, и сила воли тут ни при чём.
Второй тип — это полигенное, или обычное ожирение. На него влияют десятки или даже сотни разных генов и относительно слабых мутаций — но каждая из них вносит очень маленький вклад в общую предрасположенность к полноте. Поэтому полигенное ожирение — это плавный спектр. У кого-то соответствующих генетических вариантов побольше, у кого-то поменьше. У кого-то сильная склонность к ожирению, а у кого-то слабая. А дальше ваш образ жизни или даёт этой склонности реализоваться, или нет. Что-то всегда в ваших руках.
С другой стороны, это означает, что ваши возможности победить лишний вес ограничены! Например, среди «полигенных» факторов есть один генетический вариант, который сам по себе — в одиночку! — повышает вероятность ожирения на 23%. Это немало. Поэтому, если у вас высокая полигенная предрасположенность к ожирению, даже упорный ЗОЖ, здоровое питание и спорт лишь снизят вероятность лишнего веса примерно на 30–40%. Это неплохо, но гарантии нет. Скорее всего, вы будете здоровым человеком, но дородным. Как Портос.
Но дальше кроется самое интересное. Обычно кажется, что генетика влияет именно на усвоение пищи или отложение жира. Мы так и говорим: «у меня просто метаболизм медленный», или «еда липнет к рёбрам». Но учёные обнаружили, что самые важные гены, которые связаны и с моногенным, и с полигенным ожирением, влияют не на создание жира, не на усвоение пищи — а на работу центральной нервной системы, на пищевое поведение человека.
А если совсем точно — на различные нейронные пути и гормоны, которые отвечают за удовольствие от еды, за чувство голода и насыщение. То есть можно сказать, что для склонных к ожирению людей еда действительно более желанна. Им буквально физически сложнее остановиться есть. Очень грубо это можно сравнить с тягой к алкоголю: один человек может выпить бокал вина и пойти домой. А человек со склонностью к алкоголизму не удержится и будет пить, пока не кончится выпивка. Генетическая предрасположенность к полноте — тоже реальный фактор, который меняет поведение человека.
Я упомянул, что склонность к полноте наследуется на 40–70%. Исследователи также нашли участки генома, которые точно связаны с полигенным ожирением. Но пока что специалисты смогли объяснить лишь малую часть этого суммарного большого вклада. Так что мы ещё не до конца понимаем всю генетику полигенного ожирения. Пока что нельзя взять анализ ДНК у человека и точно определить, будет ли он страдать от лишнего веса — за исключением тяжёлых моногенных случаев.
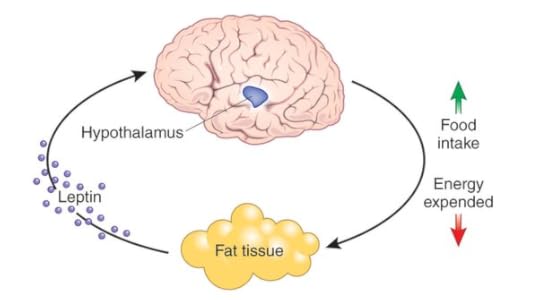
Для примера давайте ещё раз вернёмся к истории про лептин. Этот гормон производится в жировой ткани: чем больше жира, тем больше лептина. А чем больше лептина, тем меньше хочется есть. Как это работает? Лептин воздействует на гипоталамус: это участок мозга, который среди прочего управляет насыщением, принимает сигналы о поступлении пищи, вызывает или подавляет аппетит. Казалось бы, получается отличная обратная связь: чем больше жира, тем меньше хочется есть. Проблема в том, что это не единственный гормон, который влияет на насыщение. Помимо лептина работает множество других молекул и гормонов. Видимо, нарушение в их выработке и приводит к полигенному ожирению — когда человек ест даже тогда, когда уже пресытился.
В истории науки пока что не было ни одного серьезного медицинского прорыва в контроле за весом. Всё, что учёные выяснили — нужно меньше есть, больше двигаться и считать калории. Но оказалось, что людям это делать очень сложно. И генетики узнали, почему: по-видимому, большинство генов, связанных с обычным ожирением — это гены, влияющие на наше пищевое поведение.
Какой из этого вывод? Конечно же, нужно модифицировать поведение! Так мы наконец подошли к герою нашего поста — лекарству семаглутид, оно же «Оземпик». Его история началась больше сорока лет назад, в 1980-х годах. Учёные обнаружили у человека новый гормон, GLP-1 — глюкагоноподобный пептид-1. Это маленький пептид длиной в три десятка аминокислот, который вырабатывается в кишечнике, когда в организм поступает пища — своего рода сигнал насыщения.
Но насыщение учёных не очень интересовало: их поразило то, насколько хорошо GLP-1 повышает уровень инсулина и снижает уровень глюкозы в крови — как раз то, что нужно диабетикам. Мало того, оказалось, что этот гормон даже способствует выживанию и делению клеток, которые производят инсулин — то есть он борется не только с симптомами, но и с причиной заболевания.
Так родилась длинная цепочка разных лекарств, которые называются «агонисты GLP-1». Что это значит? Вместо того чтобы производить и вкалывать сам гормон, учёные стали искать другие вещества, которые нажимают на те же «кнопки» в мозгу (то есть активируют рецепторы GLP-1) — и при этом дольше действуют, лучше хранятся, проще и дешевле в производстве. Такую молекулу, похожую на GLP-1, нашли в неожиданном месте: в ядовитых железах ящерицы под названием аризонский ядозуб, или Gila monster.
В конце 1990-х эту молекулу научились синтезировать в лаборатории — и получилось лекарство под названием эксенатид. А в 2005 году американский санэпиднадзор, FDA, одобрил эксенатид как лекарство от диабета второй очереди — то есть на случай, если обычные лекарства плохо справляются. И эксенатид стал прорывом в лечении диабета! С тех пор им регулярно пользуются миллионы людей с диабетом 2 типа.
Разумеется, все фармкомпании тут же побежали искать аналоги GLP-1. Но у большинства из них была проблема: их нужно было колоть внутримышечно не реже раза в сутки, а то и чаще. Дело в том, что гормон GLP-1 очень быстро распадается в теле. Обычно, как только GLP-1 выделяется, его почти сразу начинает разлагать фермент дипептидилпептидаза-4. Поэтому из всего гормона, созданного в кишечнике, лишь небольшая часть достигает даже кровеносной системы. А чтобы добраться до мозга, у него есть всего 2 минуты — это время его полураспада.
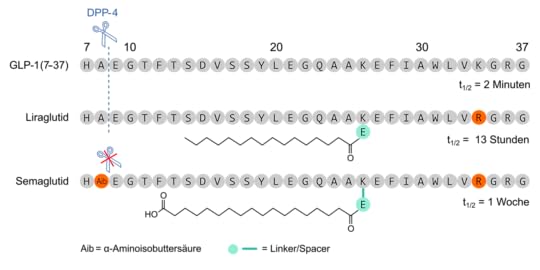
Поэтому учёные из датской фармкорпорации Novo Nordisk решили отредактировать сам гормон GLP-1: они убрали у него ту мишень, в которую прицеливалась пептидаза для его разрушения. Для этого они отрезали у GLP-1 кусочек и сделали небольшие замены аминокислот — там, где его обычно режет пептидаза.
Но на этом в Novo Nordisk не остановились. Они приделали к одной из аминокислот дополнительную длинную цепочку из атомов углерода. Она служила чем-то вроде «крюка», которым GLP-1 прицепляется к альбумину в крови. Альбумин — самый распространённый белок в крови. Поэтому измененный GLP-1 не только перестал бояться пептидазы, но и начал с лёгкостью плавать по всей кровеносной системе. В итоге удалось получить невероятный результат: в норме время полураспада GLP-1 в организме — 2 минуты. А стало — неделя! Жизнь гормона увеличилась в 5 000 раз.

Новую молекулу назвали семаглутид. В 2012 году Novo Nordisk выпустила её на рынок под названием «Оземпик» — как новейшее лекарство от диабета. Кстати, похожий трюк учёные провернули с инсулином. Раньше врачи использовали инсулин из трупов или животных, который быстро распадался в теле. Его нужно было часто колоть. А потом с помощью генной инженерии и бактериальных ГМО-ферм научились создавать модифицированные аналоги инсулина с любым нужным профилем действия: хочешь, подействует очень быстро, хочешь — будет работать очень долго. Тут похожий механизм. С помощью генной инженерии и химических модификаций мы взяли природную молекулу и усовершенствовали её под наши нужды.
Лекарство от диабета — это очень хорошо. Но при чём тут лекарство от ожирения? Уже в 2000-х годах среди желающих похудеть начали ходить слухи о том, что некие лекарства от диабета помогают сбросить вес. Ведь по сути гормон GLP-1 — это сигнал насыщения. Принял его — снизился аппетит — меньше приём калорий — теряется вес. Поэтому благодаря «сарафанному радио» люди пробовали принимать для похудения уже эксенатид из ящериц — не дожидаясь одобрения учёных.
Но и сами учёные не зевали. Уже в 2012 году вышел обзор 29 разных экспериментов с эксенатидом и другими ранними аналогами — в общей сложности на 10 тысяч участниках. Результаты были скромные, но однозначные: у пациентов с ожирением, неважно, с диабетом или без, действительно снижался вес.
Но почему настолько популярным для похудения стал именно «Оземпик»?
Вспомните: натуральный гормон GLP-1 разлагается всего за пару минут. Поэтому его бесполезно давать человеку для похудения. Ведь, чтобы снизить аппетит, гормон пришлось бы вкалывать в больших дозах и очень часто. А вот «Оземпик» живёт в пять тысяч раз дольше. Поэтому достаточно вколоть одну небольшую дозу раз в неделю.

Звёздный час для «Оземпика» наступил в 2017 году: его одобрила американская FDA. Использование диабетического лекарства не по исходному назначению стало по-настоящему массовым. Такую золотую жилу Novo Nordisk игнорировать не могла — и спешно провела большое, качественное, рандомизированное двойное слепое исследование семаглутида. В нём приняли участие 2 000 человек с ожирением из 16 стран. Им на год снизили приём калорий. При этом часть участников еженедельно принимала семаглутид, а часть — плацебо. Что важно, после этого их отпустили на два месяца без контроля за диетой, без семаглутида или плацебо.
Так вот: у пациентов, принимавших семаглутид, даже после 7 недель свободы вес был ниже в среднем на 15%. А в группе с плацебо итоговый вес был ниже всего на 2,4%. Это был по-настоящему отличный результат, да ещё и напечатанный в авторитетном журнале.
Novo Nordisk не растерялась. В 2021 году, сразу после выхода большого исследования, FDA уже сертифицировала новое лекарство, «Вегови» Вегови — точно такой же семаглутид, но под новым названием… и уже конкретно для борьбы с ожирением. Это была настоящая сенсация. Об обоих лекарствах заговорили в блогах, их использовали знаменитости — от Илона Маска, Вупи Голдберг и Эми Шумер до Опры и даже Бориса Джонсона. Препараты начали подделывать и назначать из-под полы, а спрос на американский диплом диетолога (который имеет право выписывать Вегови) в 2023 году вырос в полтора раза.
По статистике, в 2023 году «Оземпик» либо «Вегови» прописали почти двум процентам населения США: это 5,5 миллионов человек! Доходы Novo Nordisk от семаглутида просто абсурдны: считается, что почти весь годовой прирост ВВП Дании в прошлом году произошёл за счёт увеличения оборота датских фармкомпаний — и львиную долю в этом росте обеспечила Novo Nordisk.
Естественно, другие фармгиганты не сидели сложа руки. Самый известный аналог семаглутида — тирзепатид, разработанный корпорацией Eli Lilly под торговой маркой Mounjaro. Он уже принёс ей несколько миллиардов долларов. Тирзепатид не нарушает патент датчан, потому что имитирует сразу два гормона: GLP-1 и GIP. При этом Eli Lilly тоже не скрывает его «двойного назначения»: в конце 2023 года корпорация объявила об испытаниях тирзепатида для лечения ожирения у детей от 6 лет.
Так за что журнал Science назвал семаглутид «прорывом года» в 2023 году? Не за борьбу с диабетом. И даже не за возможность похудеть. Дело в том, что в декабре 2023-го вышло исследование на большой выборке испытуемых, где показали: семаглутид помогает не только диабетикам и худеющим. Выяснилось, что у обычных людей — без диабета, но с ожирением — семаглутид снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний почти на 20%. То есть это лекарство, которое не просто помогает сбросить вес — оно буквально спасает полным людям жизнь!
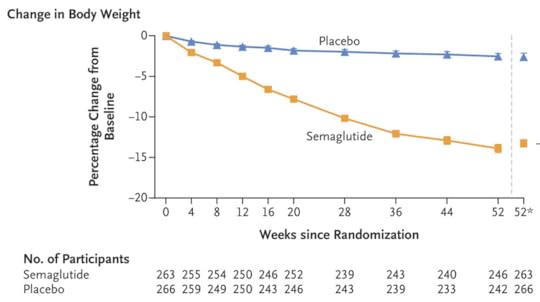
Сейчас кардиологи осторожно удивляются эффективности семаглутида в борьбе с сердечными болезнями. Например, ещё одно свежее исследование на людях с ожирением и тяжелыми проблемами с сердцем показало: у принимавших семаглутид улучшение «индекса сердечного здоровья» за год было в два раза больше, а потеря лишнего веса — в пять раз больше по сравнению с плацебо.
В другом исследовании люди с сильным ожирением и гипертонией девять месяцев принимали тирзепатид (он же «Мунджаро», лекарство-конкурент семаглутида). И они не только сбросили вес: у них снизилось давление. А эффект потери веса был сопоставим с эффектом от ушивания желудка.
Я уже говорил, почему бороться с ожирением, по моему мнению, — благородная и рациональная цель для медицины. Но, конечно же, сердечно-сосудистые заболевания — это убийца во много раз более опасный и вездесущий: 32% всех смертей по миру вызваны именно ими. И если раньше множество экстремальных диет и БАДов для похудения наносили здоровью людей серьезный вред (в том числе сердцу — как сибутрамин, «фен-фен» и амфетамины), то в лице этих новых препаратов мы имеем средство, которое одновременно борется с ожирением, улучшает ситуацию с сахаром в крови и даже защищает от болезней сердца.
Неужели всё так безоблачно? Проблемы есть. И их несколько. Во-первых, пока что этот препарат дорогой. Месячный курс «Вегови» в США стоит 1350 долларов. Естественно, обычно это покрывает медицинская страховка — но из-за ажиотажа многие страховщики отказываются компенсировать «Оземпик» или «Вегови», если подозревают, что человек просто хочет похудеть. Впрочем, патент рано или поздно истечёт.
Во-вторых, в январе 2024 года вышло несколько нашумевших статей с леденящими душу историями, самая яркая из которых звучит так: «Эта женщина всю оставшуюся жизнь будет страдать поносом». Суть статей — у «Оземпика» и «Мунджаро», принимаемых для похудения, есть побочные эффекты, в основном со стороны ЖКТ. И среди них — паралич желудка — гастропарез. Вообще частой причиной этого диагноза является сам диабет, при котором могут повреждаться нервные волокна, идущие к мускулатуре кишечника — поэтому говорить о причинно-следственных связях нужно с осторожностью. Но действительно, Оземпик, «Мунджаро» и их аналоги помимо прочего замедляют сокращения желудка. И в случае, когда у человека моторика желудка от природы очень медленная, есть риск полностью нарушить пищеварение.
Третий подвох выглядит так: оказалось, что есть как минимум одно заболевание, риск которого, по-видимому, увеличивается от приёма аналогов GLP-1. Уже десять лет назад были работы, которые утверждали: от агонистов GLP-1 у мышей более активно начинают делиться клетки щитовидной железы. А это может повышать риск рака. С тех пор огромное количество людей — как минимум миллионы диабетиков по всему миру — принимало эти препараты. И недавно вышла новая статья, уже о людях. Действительно, на выборке в десятки тысяч людей показано, что эти препараты повышают риск появления рака щитовидки примерно на 60%.
Но есть одна тонкость. Дело в том, что смертность от рака щитовидки — примерно 0,5 случая на 100 000 человек в год (половина тысячной доли процента). Этот рак редкий и очень хорошо лечится. Поэтому, даже если увеличить этот крошечный риск в полтора раза, всё равно он будет очень мал. Поэтому тут остаётся лишь взвесить за и против: перевешивает ли польза риск? Вполне возможно, что ещё как. Ведь GLP-1, похоже, имеет и другую пользу, кроме защиты от диабета, сердечных болезней и лишнего веса.

Например, в 2021 году вышел обзор, который показал: на фоне приема аналогов GLP-1 может снижаться риск таких серьёзных заболеваний, как неалкогольный жировой гепатоз и даже болезнь Альцгеймера. Кроме того, в последнее время выяснилось, что гипергликемия (избыток сахара в крови) — это один из факторов старения. Если вкратце — сахара умеют связываться с белками соединительной ткани в организме. От этого, например, становятся жёсткими и неэластичными стенки артерий (что повышает давление). В общем, аналоги GLP-1 борются с целым веером факторов, которые угрожают пожилым людям.
Лучший способ оценить эффект от новых лекарств — посмотреть на общую смертность от всех причин. Тут она повысилась, тут понизилась — а куда уходит суммарный эффект, в плюс или минус? Такой обзор уже сделали, и даже не один. Вывод — у диабетиков 2 типа от аналогов GLP-1 общая смертность снижается примерно на 11%. Увы, пока что для пациентов без диабета такого взвешивания не проводили.
Более того, есть ещё один фактор старения, который может усиливаться из-за GLP-1. В экспериментах показали: мыши (хоть и не всех линий) живут сильно дольше, если их прием калорий ограничить. Если конкретнее — у них активируются определённые сигнальные пути, которые усиливают аутофагию (очистку клеток от внутреннего мусора) и подавляют активацию рецепторов инсулиноподобного фактора роста (это помогает клеткам лучше ремонтировать себя). Поначалу учёные обрадовались и решили проверить это на людях — но выяснилось, что у людей недоедание ассоциируется с повышенной смертностью. Как и переедание. Вероятно у нас, как у весьма долгоживущих организмов, многие механизмы, которые активируются у мышей в ответ на голодание, уже и так работают.
Однако есть свидетельства, что при приёме аналогов GLP-1 эти механизмы, наоборот, ослабляются. Ведь организм почти всё время чувствует, будто насыщен. Я предполагаю, что это может привести к некоторому ускорению старения, но это не точно.
Выходит палка о двух концах: один фактор старения GLP-1 снижает, другой может увеличивать. Но это не значит, что всё пропало: ведь мы можем оставить позитивные эффекты (снижаем сахар в крови, уменьшаем вес и артериальное давление) — а вред скомпенсировать с помощью других потенциальных препаратов от старения, которые усиливают эти механизмы — например, рапамицина (если что, это не медицинская рекомендация и ученым это все еще предстоит исследовать).
То есть наша задача в будущем — найти все плюсы и их усилить. А небольшие минусы — устранить. Собственно, так же мы делаем с любыми лекарствами: когда мы узнали, что в коре ивы есть вещества, которые снижают воспаление и лечат головную боль, мы не остановились на том, чтобы просто жевать кору. Мы нашли, выделили это вещество — и получили аспирин.
Если что, этот пост — не реклама лекарства. Я не призываю никого принимать никакие препараты и не провозглашаю, что мы нашли идеальное средство от полноты. Я написал этот текст как научный журналист, который хочет проследить за развитием науки. А открытие агонистов GLP-1 — очень важное открытие, которое, вполне возможно, скоро получит Нобелевскую премию.
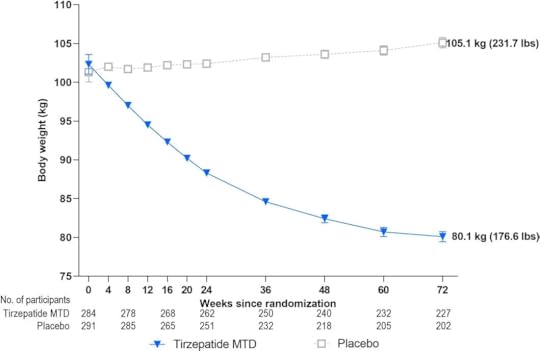
Почему я так думаю? Препарат уже проверили на огромном количестве людей (миллионы диабетиков принимают все эти лекарства больше десяти лет), о нём написано много литературы. Оно имеет большую социальную значимость, причём сразу по нескольким линиям: и диабет, и ожирение, и гипертония. И наконец, первооткрыватели GLP-1 уже удостоились авторитетных наград, которые обычно предшествуют Нобелевке по медицине — например, Canada Gairdner International Award.
Я уверен, что в обозримом будущем лекарства, о которых шла речь в тексте, станут вездесущими — как сегодня инсулин, например. А пока не забывайте о лёгких физических нагрузках, полноценном сне и разнообразной пище.
Список литературы: https://docs.google.com/document/d/1at9pDdhYTMg7dHs38itrBfVAVvh899WFtbD9BKaXpcs/edit
June 26, 2024
Кошмар вегана! Есть ли разум у растений?
Многие считают, что мы сейчас стоим на пороге сингулярности — момента, когда спонтанно «пробудится» сознание сильного искусственного интеллекта, во много раз мощнее человеческого. А мы даже не разобрались, как в точности работает наше собственное сознание. Поэтому ради выживания нам нужно срочно понять, что мы называем сознанием, поведением и жизнью – желательно без привязки к человеческому мозгу. Ещё это знание поможет при исследовании инопланетной жизни — если такую вдруг когда-нибудь обнаружат на Титане или где-то ещё. Её версия сознания и поведения может радикально отличаться от нашей.
Кроме того, попытки понять поведение растений помогут человечеству избавиться от оков устаревшего антропоцентризма. Сейчас люди считают, что мы – высшая жизнь, а другие существа – жизнь низшая, они ничтожные и ни на что не способные. Я считаю, такой подход мешает науке.
Вы удивитесь, но о том, могут ли растения вести себя осмысленно, задумывался ещё Чарльз Дарвин. Учёный писал: “Не разумно ли ведёт себя корень растения? Ведь он выискивает, куда прорасти, основываясь на том, где больше всего питательных веществ”. Натуралист проводил вольные параллели между этим поведением и реакциями мозга. Также именно Дарвин придумал модную до сих пор идею о том, что музыка якобы влияет на рост растений и их здоровье. Кстати, автор “Происхождения видов” провёл эксперимент: он сам играл растениям на фаготе — но те к музыке оказались равнодушны (возможно, им просто не понравилась игра натуралиста). И как настоящий учёный Дарвин признал своё поражение. Основоположник современной теории эволюции играл на фаготе мимозе стыдливой (mimosa pudica). Если её потрогать за листочек, то листочки – хоп – и схлопываются. А Дарвин как раз проверял, закроется ли лист мимозы от разной музыки.
Естественно, у листьев нет мышц. Вместо этого в клетках у основания листочков открываются канальцы – через них из листа выходит лишняя вода, уменьшается тургор (наполненность). И листик поникает.
Конечно, музыка никак не влияет на растения. Тем не менее, одно время была популярна теория о том, что от рок-музыки растениям плохо, а от классики или индейской флейты — хорошо. На эту тему даже научные статьи выходили – правда, очень низкого качества. Ещё возникла гипотеза, что с растениями нужно разговаривать по-доброму, а если их ругать и осыпать грязными словами, они будут хуже расти. А в известном псевдонаучном фильме «Великая тайна воды» даже говорится, что рисовое зёрнышко может протухнуть, если его игнорировать и не дарить ему любви. Нужно относиться к нему с любовью — тогда оно покроется красивой розовой плесенью. Всё это, конечно, к науке отношения не имеет.
Тем не менее, последние двадцать лет всё больше учёных пишут статьи и проводят исследования, где уже вполне серьёзно ведут речь о разумном, адаптивном поведении у растений. Возникает вопрос: что эти авторы вообще понимают под словом «разумное поведение» и «интеллект»?
Определить наличие интеллекта, решать, кто разумен, а кто нет, очень сложно. Как мы знаем, даже среди людей не все проявляют признаки разума (если бы интеллект был болезнью, можно было бы сказать, что вокруг ходит множество его «бессимптомных носителей»).
Есть два понятия: sentience и sapience. На русский их можно перевести как «обладание сознанием» и «обладание разумом». Первое — это когда существо может воспринимать мир органами чувств и переживать субъективные ощущения. В том числе боль и страдания — то есть самый ключевой этический вопрос для вегетарианцев. «Вопрос не в том, могут ли они думать, и не в том, могут ли они говорить, а могут ли они страдать», — писал английский философ Джереми Бентам. Sapience же – это разум или интеллект. Это способность мыслить абстрактно, планировать, решать задачи и так далее.
Да, мы не можем залезть в голову даже друг другу — а животным, лишённым речи, и подавно. И, тем не менее, внешние признаки разума и когнитивных навыков находят у многих животных. Поэтому учёные решили вывести чисто практическое определение разумного поведения: взяли научную литературу и обобщили несколько десятков версий. И вот что у них получилось:
Разумное поведение – это свойство, которое проявляется, когда индивидуум взаимодействует с окружающей средой. Оно ведёт к успешным, выгодным последствиям для своего носителя, а также характеризует умение носителя адаптироваться к разнообразным условиям среды или меняющимся задачам.
Короче говоря, это любой тип направленного и изменяемого поведения, которое полезно для организма и помогает ему достигнуть какой-либо цели. А американский учёный Александр Висснер-Гросс писал, что интеллект — это «стремление к максимизации свободы действий в будущем». Чем более выражено это стремление, тем больше у организма признаков интеллекта.
Заметьте, что в определениях разумного поведения нет ни слова про нервную систему или мозг – только про характер поведения. Но какой же может быть разум и даже поведение у существ, которые лишены мозга и нервной системы? Этот вопрос задали 33 автора коллективной статьи-обращения с названием «Нейробиология растений: нет мозгов, нет смысла?» В публикации они просили учёных перестать заниматься ерундой и искать разум у растений.
Но кто сказал, что для разума нужен мозг?
В 2021 году вышла статья «Нейронаука парамеции — "плавающего нейрона"». «Парамеция» — это другое название всем известной инфузории-туфельки, одноклеточного плавающего животного.

У парамеции есть тысячи маленьких ресничек, с помощью которых она плавает. При этом она реагирует на множество разных сигналов. Туфелька может:
На ощупь обходить препятствия;
ощущать свет и температуру (например, избегать горячей воды);
чувствовать гравитацию;
ощущать течение воды и менять курс;
воспринимать разные химические сигналы;
интегрировать несколько одновременных сигналов, чтобы «принять оптимальное решение» в конкретной ситуации.
Получается, что, будучи одной клеткой, парамеция имеет почти все чувства, которые есть у животных со сложной нервной системой. Более того, некоторые молекулярные механизмы, которые отвечают у туфельки за обработку нервных сигналов, очень похожи на те, что работают в наших нейронах.
В работе любой нервной системы используется так называемый потенциал действия — это когда на короткое время с минуса на плюс меняется разница электрических потенциалов внутри и снаружи клетки. Потенциал действия передаётся вдоль клетки. Это и есть возбуждение нейрона.
И у парамеции потенциал действия тоже возникает! Например, у неё есть голова и хвост (она плавает головой вперёд). И если она ударилась хвостом, то начинает плыть быстрее. А если ударилась головой, то недолгое время даёт задний ход с поворотом. Как игрушечная машинка. При этом на клеточной мембране парамеции меняется потенциал: примерно так же, как в нейроне. Достигается это путём открытия определённых каналов, пропускающих через себя заряженные ионы. Поэтому парамецию и назвали «плавающий нейрон».
Но в чём тут связь с растениями? А вот в чём: очевидно разумное, адаптивное поведение встречается у живых существ, которые вообще не имеют нервной системы и тем более мозга. На это способна даже одна-единственная клетка. Каким-то образом эта клетка, словно крошечный биокомпьютер, решает, что ей делать. Иногда люди говорят: «Ну какое там разумное поведение у растений, когда у них нет мозга и даже нервной системы». Но они не совсем правы.
Приведу ещё один пример. Все слышали историю о том, что акулы плывут на запах крови. А у парамеции — наоборот. Когда какая-нибудь клетка умирает и лопается, снаружи оказываются вещества, которых там обычно мало. Например, АТФ — основная энергетическая “валюта”, которая активно используется внутри клеток. И парамеция умеет различать эти вещества: они для неё отвратительны! Она убегает прочь от места, где погибли другие клетки, будто предполагая, что там для неё опасно. Пожалуй, это можно сравнить с поведением животных, которые избегают мест с падалью и гниющими трупами. Людям такое поведение, кстати, тоже свойственно.
В общем, отсутствие мозга — не железный критерий, чтобы отказать растениям в разумном поведении.
Тогда давайте выясним, обладают ли растения конкретными признаками разумности. Один из самых наглядных признаков разума — это физическая подвижность. Организм активно реагирует на стимулы – и так можно понять, соображает ли он. Поэтому мы привыкли приписывать разумное и осмысленное поведение только животным — существам, которые активно двигаются. А растения, во всяком случае, в нашем масштабе восприятия, неподвижны. Они не убегают от топора дровосека, не бредут к воде и не отодвигают ветви соседей, закрывающие им Солнце.
Но на это можно возразить: а почему обязательно подходить к растениям со своей меркой времени? В таймлапс-роликах мы прекрасно видим, что растения движутся. Молодой подсолнух в течение дня поворачивается вслед за Солнцем. Корни, как описывал Дарвин, целенаправленно растут в сторону питательных веществ в почве.
Можно подойти к этому вопросу и другим путём. Некоторые насекомые движутся и реагируют быстрее нас. Глядя на людей, тщетно пытающихся их поймать, они могли бы подумать, что мы что-то вроде деревьев — глыбы, которые ворочаются бесконечно медленно и бессмысленно. Возможно, так же мы воспринимаем растения. Кроме того, есть растения с вполне быстрым движением: например, уже упомянутая мимоза, которая чувствует прикосновения и мгновенно скукоживается. А также известный хищник — венерина мухоловка, которая ловит насекомых. А ещё учёные доказали, что венерина мухоловка умеет считать.

В её пасти на каждой из челюстей есть по три волоска. Если внутрь залетело мелкое насекомое или пылинка, они коснутся лишь одного волоска. Пасть не закроется, муха спасётся. Чтобы мухоловка захлопнулась, добыча должна коснуться как минимум двух волосков в течение 20 секунд. (Да, учёные специально проверили: если интервал между касаниями больше 20 секунд, пасть не реагирует. От вида к виду точное время и число касаний может меняться).
Для мухоловки это целесообразно с точки зрения эволюции. Ей требуется много времени и энергии, чтобы снова открыть пасть, плюс общее количество «схлопываний» у каждой ловушки ограничено. Поэтому нужно убедиться, что это не ложная тревога, а добыча большая и вкусная! Кстати, мухоловка продолжает считать касания волосков и после поимки — прежде чем начать процесс пищеварения. Получается, что венерина мухоловка полноценно обрабатывает информацию и принимает пусть и простое, но решение.
Тут возникает вполне правомерный вопрос: а чем она тогда не разумное существо? Чем она отличается от статичного животного — например, актинии, которая ловит проплывающих рыбок? Кстати, механизм распознавания сигналов у мухоловки даже чем-то напоминает работу нервной системы. В клетках её волосков-«сенсоров» есть чувствительные к прикосновению ионные каналы, которые открываются и меняют потенциал снаружи и внутри клетки. Реакция возникает, когда создаётся потенциал действия. По сути, когда мухоловка чувствует муху и захватывает добычу, задействуются такие же молекулярные механизмы, как когда мы отдёргиваем руку от сковородки. Примерно так же функционирует и парамеция: она чувствует касание, у неё активируются ионные каналы, что меняет работу ресничек.
При этом у мухоловки есть не только орган чувств, но даже некий аналог «кратковременной памяти», который накапливает данные о прикосновениях. Обо всём этом можно посмотреть выступление нейробиолога Грега Гейджа.
Ещё один безошибочный признак разумного поведения, его базовый кирпичик — это способность к обучению, адаптации. Всё как в школе — те самые условные рефлексы по Павлову. Есть собака, у неё в ответ на еду вырабатывается слюна. А мы, перед тем как её покормить, зажигаем лампочку. В итоге зажигаем лампочку — и хотя еды ещё нет, у собаки уже течёт слюна. Это — основа обучения. А поверх неё уже возникают более сложные связи между событиями, ассоциации, память.
Так вот, в 2016 году в журнале Scientific Reports вышла нашумевшая статья. Её авторы заявили, что растения можно научить рефлексам по Павлову.
Учёные взяли обычный посевной горох и посадили его росток в своего рода вертикальный лабиринт: раздвоенную трубу в форме буквы «игрек». Дальше гороху дали стимул: у собаки это было мясо, а у растения — живительный свет. При этом светили то в одну, то в другую трубу. Дальше началась тренировка рефлекса. Условным сигналом был вентилятор: сначала час дули в трубу ветром, потом в неё же светили светом. То есть учили росток условному рефлексу: свет будет там, где ветер.
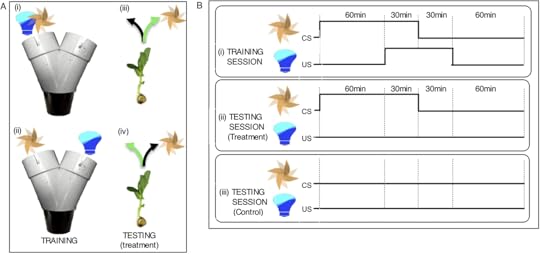
После обучения настало время проверки: на растение дули целый день (без света!), и смотрели — в какую из труб в итоге пойдёт росток? И сработало! В контрольной, «необученной» группе 100% ростков проросли в другую трубу — там, где последний раз был свет. А вот из «обученных» ростков большинство проросло в трубу, откуда дул ветер — причём вопреки врождённой реакции. Выходит, обычный горох каким-то образом смог «запомнить», где был стимул, сориентироваться в пространстве и совершить выученное действие.
Конечно, вокруг этой работы разгорелся огромный скандал. Ещё бы: растения могут запоминать и обучаться! Поэтому эксперимент решили проверить. В 2020 году его воспроизвели... И ничего не получилось. У «обученных» и необученных ростков выбор статистически не отличался. Надо сказать, что горох во втором опыте был чуть-чуть другой, а лампы и вентиляторы немного отличались от оригинальных.
В общем, вопрос о том, могут ли растения надолго запоминать стимулы и вырабатывать павловские рефлексы, «горячий». И пока он остаётся открытым. Но мы можем точно сказать, что обучаться павловским рефлексам могут существа без нервной системы. Это всё та же парамеция: в одном старом исследовании 1979 года учёные утверждали, что смогли её обучить. Они знали, что парамеция не любит удары током: если подать напряжение, она пытается убежать. Далее они совместили звуковой сигнал с электричеством. Что важно, удар током происходил в середине звукового сигнала. Авторы утверждают, что после долгих тренировок парамеция начинала убегать не в момент удара током, а как только начинал звучать сигнал. Мало того, она узнавала именно этот звук — от звуков других частот она не убегала. Заметьте: у инфузории нет ни ушей, ни мозга, чтобы обработать услышанный звук.
И наконец, парамецию можно было «разучить»: если долго играть тот же звук без ударов током, она перестаёт убегать.
Ещё один признак, который мы ассоциируем с интеллектуальным поведением — конечно же, коммуникация. Например, некоторые растения, когда их начинают поедать паразиты, испускают химические сигналы, привлекающие паразитоидов — тех, кто паразитирует на паразитах! Как это выглядит? Вот листочек начала грызть гусеница. А растение выпускает вещества, которые сообщают осам-паразитам: здесь гусеницы, налетай! Осы откладывают в гусениц личинки, а те вылупляются и сжирают гусеницу. Вот вам и межвидовая коммуникация: растение для защиты от травоядных призывает тех, кто ими питается. Это как если бы лист салата призвал Ганнибала Лектора, чтобы тот защитил его от веганов.

В 2013 году в журнале Королевского общества вышла работа о коммуникации растений друг с другом. Оказалось, что если куст полыни повредить, он испускает летучие химические вещества — и его сородичи, учуяв эти сигналы, усиливают свою защиту от паразитов и лучше переживают следующий сезон. В пользу этой гипотезы говорит то, что эта реакция была сильнее всего рядом с раненым растением, а на другом конце сада почти не проявлялась. Но, что ещё интереснее, эффект оказался более выраженным не просто у кустов того же вида, а именно у родственников пострадавшей полыни — самых генетически близких к ней кустов.
У другого вида полыни учёные заметили признаки кооперации при встрече с корнями родичей: это приводило к разветвлению корней, чтобы не мешать своим. А с «чужаками» рост корней усиливался – чтобы не уступать территорию конкурентам.
Ну ладно растения — а могут ли быть разумными грибы? И тут начинается вообще безумие. Например, есть грибы, которые могут проголодаться. То есть они вдруг понимают, что им не хватает определённых питательных веществ. Тогда они включают систему обнаружения червяков. Эти червяки-нематоды испускают химические сигналы. А мицелий, то есть грибница упомянутого гриба, может сигналы чувствовать.
Мало того, гриб знает, в каких местах грибницы этих червяков больше. Ведь растить мицелий и ловить червяков затратно. И вот в местах скопления червяков гриб начинает расставлять ловушки! Кстати, ловушки бывают разные. Это может быть колечко из мицелия — как капкан-силок. Червячок заползает в это кольцо, оно сжимается, и гриб хватает добычу. И получает на обед вкусный, полезный азот для роста. Второй вид ловушки — это липкая сеточка, которую гриб проращивает в грунт. А некоторые виды таких грибов также используют против червей «химическое оружие». Поймав их в ловушку, они травят их нервно-паралитическим ядом. Получается, плотоядный гриб – животное с довольно разумным поведением!
Всё ещё смеетесь над шуткой, что Ленин был грибом?
Но на грибах мы не остановимся. Существует умная слизистая плесень! Это слизевик-миксомицет физарум – по сути, большая многоядерная одноклеточная амёба. Больше всего она похожа на монстра из игры Carrion: из неё тоже во все стороны тянутся ниточки, которыми она ищет еду. А когда находит, подтягивает части себя к этому месту.
В самой известной работе, показывающей осмысленное поведение физарума, его помещали в лабиринт. В двух разных местах лабиринта были кусочки еды. И физарум смог найти оптимальный путь от одного кусочка к другому! Он выпускал щупальца по всему лабиринту, как бы проверяя все возможные пути — а потом оставлял только самую короткую дорожку, так, чтобы съесть оба куска. Тут важно, что вначале организм рос во всех направлениях. Но когда находил короткий путь, все остальные ниточки отмирали, а оптимальная крепчала.
В другой работе учёные разработали карту региона вокруг Токио, где вместо городов были овсяные хлопья. А потом запустили в центр, на место Токио, физарума. И тот проложил оптимальные пути между хлопьями и нарисовал довольно точную карту железных дорог токийского региона. Ещё известно, что физарум чувствителен к свету, тот может ему повредить. И если на оптимальном пути в лабиринте поставить источник света, то физарум выберет второй по оптимальности путь, где губительного света нет. Фактически физарум совершает осмысленный выбор: взвешивает риски и выбирает оптимальное решение по сумме факторов. При этом, когда физарум испытывает стресс, он чаще ошибается и хуже принимает решения — всё как у людей.
Также физарум перестаёт разрастаться, если его слегка ударить током. Может, вы уже догадались, к чему идёт дело: он способен обучаться! Учёные пробовали бить физарум током с регулярными интервалами. Ударили, подождали, ударили, подождали... а потом в какой-то момент не ударили. Но физарум всё равно прекратил свой рост — именно тогда, когда «ожидал» следующего удара.
Также у него есть и привыкание. На пути к еде ставили токсичное вещество: для физарума оно неприятно, но не смертельно. Так вот, приближаясь к токсичной среде в первый раз, он сильно замедлился. А потом, как бы поняв, что она не смертельна, ускорился. А в следующие разы его ростки проползали в этом месте уже с обычной скоростью.
Вы понимаете, насколько это сложно? Получается, одноклеточный организм может запоминать, осторожничать, выбирать маршрут по нескольким критериям, есть полезную еду вместо неполезной. Даже его внутреннее устройство более организованно, чем мы могли бы ожидать. По сути, это скопление множества ядер, подвешенных в единой гигантской клетке. Но по какой-то причине все эти ядра делятся синхронно — даже когда физарум очень большой.
Так насколько корректно говорить о разумном поведении – и тем более разуме – у растений, грибов или инфузорий? Или это только всё путает? Мне кажется, что в своём антропоцентризме мы слишком легко отказываем в разумности объектам, которые не похожи на нас.
Сколько споров вокруг того, сможет ли стать по-настоящему разумной компьютерная нейросеть. Она же другая! Не такая! В компьютере транзисторы! А у нас клетки! Нейроны! А кто сказал, что разум может быть устроен только так, как он устроен у нас? Может, это и мешает нам увидеть разум в самых неожиданных и необычных местах. Вспомним “Солярис” Станислава Лема, где разумным был океан. Или — окей, не очень правдобный, но крайне необычный — разум пришельцев из фильма «Прибытие».
Есть ещё одна причина, по которой мне очень нравится фраза «безмозглый разум». Даже для самых якобы примитивных существ умение формировать правильное представление об окружающем мире и строить причинно-следственные связи очень полезно. В каком-то смысле и мухоловка, и парамеция, и плесень физарум — тоже учёные, познающие реальность. Они должны делать правильные выводы об объективной реальности, находить закономерности. И есть реальные критерии успеха такой познавательной деятельности — в виде обнаружения еды и партнёров. Или избегания хищников. Так, известно, что жуки-бомбардиры придумали огонь раньше, чем мы. А электрические скаты раньше нас придумали электричество. Бактерии же раньше людей изобрели генную инженерию.
Я готов даже признать, что фундаментальные принципы науки природа изобрела и реализовала задолго до появления человека.
Возможно, тот факт, что объективное знание, эксперимент и доказательство для нас являются ценностью — это лишь следствие того, что такие ценности формировались для выживания у наших далёких предков. То есть не так уж сильно мы отличаемся от грибов, растений и других существ.
June 19, 2024
Самый КРИНЖ российской науки
Сегодня мы поговорим про самый отборный кринж российской науки. Мы познакомимся с самим Королём Кринжа — качественного российского индекса научных журналов. А ещё обсудим, почему нынче все называют себя учёными: от астрологов до открывателей великого знания, что оргазм — это мощные лучи из космоса.
Есть такая штука – «Российский индекс научного цитирования», РИНЦ. Это огромная база данных с поисковиком: электронная библиотека, куда загружаются научные исследования наших соотечественников. Публикации в РИНЦ — не просто посты в интернете. Это инструмент продвижения научной карьеры, они в некотором роде повышают престиж учёного. И чтобы эти статьи там появились, они в теории должны быть напечатаны в серьёзном научном журнале.
Как отличить научный журнал от ненаучного? Узнать, индексирует ли его авторитетная база данных. Главные такие базы – зарубежные: Web of Science и SCOPUS. Всё, что там публикуется, автоматически считается научной информацией, пока не доказано обратное. А в России такая база данных — РИНЦ. И вот публикации в РИНЦ бывают САМЫМИ, не побоюсь этого слова, ЗАНЯТНЫМИ.
Может, помните персонажа по фамилии Грабовой? Это известный деятель псевдонауки, который пытался монетизировать человеческие страдания — например, обещал воскрешать детей, погибших в Беслане. Так вот, у Грабового в РИНЦ проиндексирована целая монография – «Восстановление организма человека концентрацией на числах».

Каких ещё числах, спросите вы? А я отвечу: на семи-, восьми- и девятизначных. Например, чтобы победить понос, нужно представлять себе… число 5843218. От ушиба поможет 0156912. А бороться с онанизмом нужно с помощью 0021421. Также есть числа от чумы, геморроя, укуса змеи и даже от комы (есть идеи, как объяснить человеку без сознания, какое число ему представлять?)
РИНЦ — это официальная библиотека-реестр российской научной литературы. И запасы такой эм… галиматьи в его базе практически неисчерпаемы. Например, вот научная статья «Дистанционная биоголография как защита от психотронного нападения».
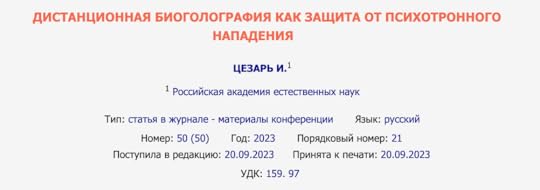
В ней Ирина Цезарь, президент компании «Волновой геном» и директор Скифского музея, рассказывает, как
«Дистанционная биоголография» помогает защититься от «психотронного нападения широкого ЭМП-спектра» «на основе кодов преломления в нелокальной (во времени и пространстве) диффракционной решётке стоячей волны волнового кристалла в сторону его фокуса / нулевого центра, единого для хромосомы и Галактики».
Причём работает всё это в соответствии с фундаментальной теорией угадайте кого? Правильно, этой самой Ирины Цезарь. Согласно автору, защищаться надо не только от психотронных лучей, но и от биологов вроде меня. Цитирую:
CRISPR/Cas9 меняет ДНК, превращая людей в ГМО. Но генетически модифицированные организмы СТЕРИЛЬНЫ, [а также] когнитивно деградированы. Стерилизованные идиоты – вот истинный смысл нобелевской премии Дженнифер Дудна.
Ещё один эталонный пример научного кринжа — статья «Российская семья как основа отечественной государственности». Она тоже входит в РИНЦ, среди авторов — депутат Госдумы, эксперт центра национальной безопасности.
«Берите в жёны только девственниц. Ибо уже доказано наукой: женщина всю свою последующую жизнь рожает от своего первого мужчины».
Как это работает? Дело в том, что «след от каждого мужчины, побывавшего в организме женщины, остаётся у неё навсегда на биологическом (сперма), либо волновом уровне (при наличии презерватива)». И самая страшная цитата:
«Американцы исследовали все пути поступления спермы в женский организм. Если они во рту, то заплывают и пробираются в носовые ходы, во внутреннее ухо и за глаза. Там они проникают глубже. Они попадают в кровь и собираются в головном и спинном мозге».
Или вот знаете, откуда берутся страшилки про про 5G? А это, оказывается, научное исследование, опубликованное в журнале «Вестник российской Академии наук». Не абы кто, а заведующий лабораторией Государственного оптического института имени Вавилова, старший научный сотрудник Физико-технического института РАН утверждает, что COVID-19 напрямую связан с 5G — и смертность от вируса выше там, где есть коммуникации НАТО.
Биометрия и цифровизация тоже смертельно опасны, ведь они влияют на гены. Автор статьи «Закон о биометрии в России — это потенциальное оружие Запада», доктор экономических и филологических наук, сообщает: в США разрабатывают боевые вирусы, и параллельно с этим за счёт закона вселенского гомеостаза в России разрушается семья, падает плодовитость и растёт гомосексуализм. Поэтому…
«…Хватит увлекаться цифровизацией. Пора заняться в России возвышающем человека на великие дела духоподъемной идеологией».
…И уходить в ноосферу, перед этим переведя весь интернет на русские слова.
Ну и до кучи — вот такая книга под названием «Числовой индивид буквы».
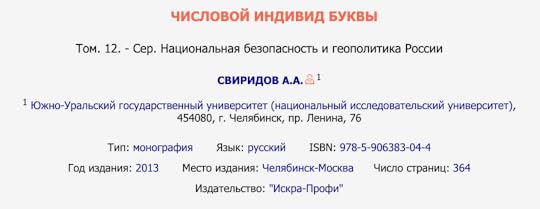
Тоже индексирована в РИНЦ как научный труд. Цитирую:
«Биороботический интеллект человека-Паука рассчитал свой удар с астрономической траекторией из-за зазеркалья космического нуля Абсолюта-Андрогина-Античеловека в качестве противодействия Духовно-родовой очистки РФ и планеты Земля согласно явленной Воле ступающей Русской Солнечной Эпохи Русскими Богами.
Уродами – уходящими от РОДЪА, ушедшими от РОДЪА вбирающих в-Себя, как в физическое тело мотивы [гомосексуалиста] Иисуса из Навина, так и гомодуховную андрогинную сущность Христа Спасителя-Христа Утешителя во вселюбии к нежелателям и противникам родового продолжения в сиянии двух нолей арийского русского первочисла одиннадцать: 11».
На фоне этого я уже достаточно спокойно воспринял книгу «Ноосферная парадигма россиеведения». Там всего лишь рассказывается, что Отец, Сын и Святой дух — это водород, фотоны и волновая информация. А ковид создан для того, чтобы убрать лишних рептилоидов с планеты. Ну создан и создан. Ведь человек-Паук уже нанёс свой удар из зазеркалья.
Возникает вопрос: неужели на РИНЦ принимают и индексируют всё подряд, не глядя? Не совсем так. Например, в 2017 году появилась новость: из библиотеки РИНЦ исключили более 300 мусорных некачественных журналов, российских и зарубежных. И это хорошо. РИНЦ за это можно только похвалить. Но есть нюанс: если журнал выкинули из индекса РИНЦ — его статьи никуда не делись. Изменилась лишь маленькая графа, которая называется «входит в РИНЦ». Пометка «входит в РИНЦ» означает, что публикация как бы научная, то есть индексируется. А если журнал посчитали мусорным и выкинули, то у него не будет этой галочки. Но в библиотеке РИНЦ он останется! Вот, например, статья, которая есть на сайте, но не «входит в РИНЦ» — у неё нет галочки. Тут оргазм — это мощный луч из космоса, который медленно наводится с помощью поступательных движений во время полового акта.
Почему важна галочка? Если её нет, статью не будут учитывать в статистике. Она не сможет влиять на индексы цитируемости учёного, то есть на его условный «рейтинг» в научном мире. А учёные любят иногда хвастаться индексом Хирша. Хирш – это сколько у тебя есть статей, которые процитировали столько-то раз. Поэтому, когда РИНЦ исключил из индексирования 300 журналов, он этим кое-кому Хирш обрезал — и учёные, конечно, комплексуют по этому поводу. При этом все дикие примеры, которые я перечислил в начале, имеют галочку и индексируются РИНЦ! Даже после того, как они выкинули 300 мусорных журналов, всё равно осталась вся эта галиматья. С пометкой: «это наука».
Поскольку есть такая проблема — и потому что это ещё и очень смешно — появился и очень активно растёт один паблик в телеграме. И я считаю, что это очень хороший, очень правильный проект, который подсвечивает всю эту невероятную дичь. Называется этот паблик «КРИНЖ». Его название расшифровывается как «Качественный российский индекс научных журналов». А ведёт его человек под псевдонимом «Король Кринжа».
Сразу оговорюсь: похожие проблемы есть не только в российской науке. Свой кринж можно найти и за рубежом. Но уровень кринжа в России, его массовость и то, какой ущерб он наносит науке, мне кажется беспрецедентным. И заметную роль тут, увы, играет РИНЦ.
Небольшое лирическое отступление: мы видим, что псевдонаука очень часто идёт нога в ногу с какой-нибудь сомнительной «научной этикой». Например, в нацистской Германии были псевдонаучные теории о превосходстве той или иной расы. И сомнительными они были одновременно и с научной, и с этической точки зрения. Так и здесь: мы видим, что куча статей в КРИНЖе буквально пропитаны расизмом, национализмом, луддизмом и прочими -измами. Снова нарушение научной этики идёт рука об руку с нарушением этики человеческой. Есть целые фабрики мусорных публикаций, где журналы готовы подделывать рецензирование, заметать под ковер плагиат и публиковать любую чушь. И эти же бредовые статьи полны людоедской пропаганды.
Порой даже удивляет постоянство, с которым авторы этих странных статей умудряются зиговать. Вот, например, статья вроде бы про физику: «Изменение течения времени на земле в связи с постоянным изменением плотности земли, а также с постоянным увеличением землёй частоты собственных вибраций».
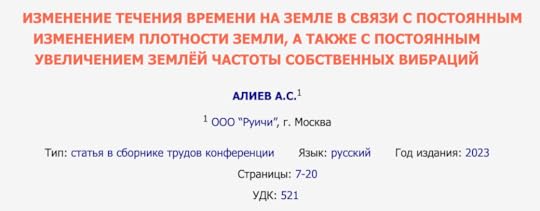
Но физики там хватает ненадолго. Очень скоро читаем:
«Поэтому не середина четвёртой Коренной Расы атлантов расположена на стыке Нисходящей и Восходящей Ветвей, а пятая Коренная Раса – раса арийцев, в окончании своей Пятой Подрасы. Сейчас время, наверное, шестой или седьмой веточки Пятой Подрасы Пятой Коренной Расы».
Ещё пример дурной этики. Я уже упоминал книгу, где Бог-отец – это водород, а Христос – это фотон. В ней есть глава под названием «Психические душевные накопления предыдущих воплощений, их отражение в гороскопе рождения и духовный багаж России». Вы уже догадываетесь, что это чушь. Но я хочу подчеркнуть, что эта чушь ещё и отвратительная:
Девушка, «возвращаясь домой, в темноте (как всегда с рюкзаком), почему-то подчиняется воле нагнавшего её мужчины и сворачивает в парк на скамеечку. Получает удар по голове — теряет сознание, но, очнувшись, с трудом (без рюкзака) добирается до дома. Спустя годы, спрашивает у <...> яснослышащей целительницы, <...> чем это обусловлено?»
«Ответ: изнасилованием в одном из прошлых воплощений, которое… могло быть следствием более раннего воплощения восточным властителем».
То есть виноват не насильник, а женщина, которая в прошлой жизни как-то не так жила.
Чтобы вы понимали масштаб проблемы: среди авторов этой книги есть целый академик РАН — Российской академии наук. Не РАЕН, Российской академии естественных наук, которую называют «академия на РАЕНе» и где академиком сделали Кадырова. А настоящая Академия наук. Я сразу узнал фамилию этого академика: Виктор Драгавцев. Это человек, который рассказывал, что ГМО – это суперужасно. Но Драгавцев в списке авторов не один. Помимо академика РАН эту чушь подписали своим именем 22 кандидата наук и 27 докторов наук.
На этом фоне даже учёные вроде Уэйкфилда, который утверждал, что вакцины вызывают аутизм, выглядят адекватными. Да, Уэйкфилд кое-где приврал, приукрасил, его знаменитую статью отозвали, но он хотя бы внятно излагает свои мысли. Он не наваливает в каждом абзаце по три совершенно новых бредовых концепции.
Вот ещё одна цитата из книги, которую написала целая толпа докторов и кандидатов вместе с академиком:
«Духовная цивилизация, то есть цивилизация, для которой действует
принцип примата духовных потребностей над материальными, принцип или закон идеократии — власти большой национальной идеи, скрепляющей большое «пространство-время» бытия российской цивилизации»
«…в духовной системе русского народа и России центральное место занимает «правда» — как важнейшая духовная ценность, в которой отражается единство истины, добра, красоты и справедливости, поэтому Россия может быть названа «цивилизацией Правды», а ее духовность — «духовностью Правды».
То есть они тут без смущения выводят научное определение правды и объясняют, откуда она берётся. И, конечно же, она принадлежит только одной стране в мире. Кажется, авторы перепутали идеократию и идиократию и стремительно пытаются приблизить последнюю. Правда! Живите по правде!
И тут мы видим ещё одну особенность КРИНЖ-науки. Это штука под названием virtue signalling, «демонстрация добродетели». Казалось бы, звучит хорошо — но это термин с негативной окраской из психологии и антропологии. Дело в том, что людям, которые действительно делают добро и приносят пользу — строят мосты, изобретают лекарства, помогают нуждающимся — не нужно кричать на каждом углу о своей крутости: «Мы самые духовные, мы самые моральные, мы лучше других!» Кричать о своей добродетели нужно тем, чьи дела не говорят за них сами. И вот такие статьи — чистой воды virtue signalling: это не только сомнительные идеи на грани абсурда, не только спорные этические суждения, но и беспрерывная самопохвала.
Я уже упомянул о разных «галочках», которые могут быть у публикации в РИНЦ и отражают статус этой публикации. Одна из них — «входит в ядро РИНЦ». Ядро — это то, что сам РИНЦ считает наиболее качественными изданиями. Уж тут-то всё должно быть в порядке! Что же, в паблике КРИНЖ есть целая рубрика, хештэг, который так и называется: #из_ядра_ринц. И оказывается, что даже в самом ядре тоже встречается запредельная дичь. Например, вот статья «Лозоходство, нанотехнологии и перспективы прикладной и фундаментальной геофизики». Когда вы слышите слова «лозоходство» и «нанотехнологии» в одном предложении, то сразу понимаете: похоже, сейчас будет интересно.
Лозоходство и использование нанотехнологий разделяет более 4-х тысяч лет. Можно ли сейчас сопоставлять эти две технологии, одну, буквально, «старую как мир», и другую, обращенную от дней сегодняшних в необозримое и пока неясное будущее. Секрет эффекта лозы до сих пор не раскрыт до конца.
Если что, речь не про Юрия Лозу, а про людей, которые ищут разные вещи под землёй с помощью палочек: например, воду и полезные ископаемые.
Далее авторы разбирают три взгляда на лозоходство: геофизический, биофизический и астральный. А нанотехнологии — это бонусный подход, который поможет их все объединить.
Тут, наверное, нужно пояснить, почему эта статья абсурдна: всё-таки тут пока не упомянули ни рептилоидов, ни хромосому Галактики. Лозоходство используют не только для рытья колодцев, но и для поиска всяких полезных ископаемых. Видимо, поэтому оно заинтересовало геологов. Мой отец лично знал одного лозоходца, который искал нефть с помощью палочек… по Google Maps: водил ими по экрану компьютера.
Но мы знаем, что лозоходство не работает. Его множество раз проверяли в ходе научных экспериментов. Так, в 1971 году британские военные пригласили множество лозоходцев и попросили их с помощью своих палочек искать противопехотные и противотанковые мины. К счастью для лозоходцев, учебные! Но у них ничего не получилось: их процент успеха был не выше случайного. При этом один из лозоходцев сказал: «Ладно, с минами не получилось, но если вы закопаете… гомеопатическое средство, я его точно найду».
Не нашёл.
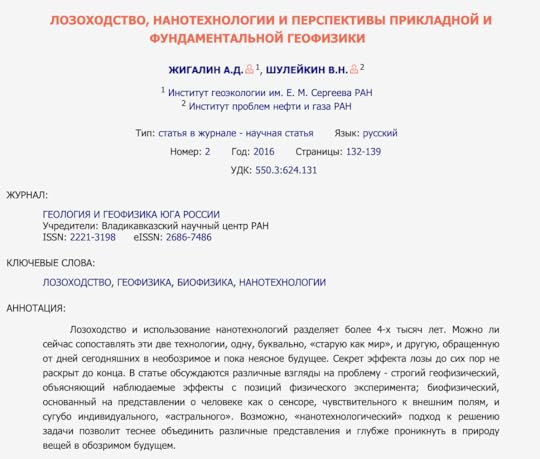
На самом деле палочки отклоняются благодаря идеомоторным актам. Если человек воображает, что прут вращается — наш мозг посылает незаметный сигнал нашей руке, и он начинает вращаться – как раз там, где человек этого и ожидал.
Ещё в «ядро РИНЦ» входят статьи «Холодец как источник тепла и благополучия» и «Кончита Вурст, или закат Европы» — про то, как Антихрист и Люцифер приближают деградацию Запада по Шпенглеру.
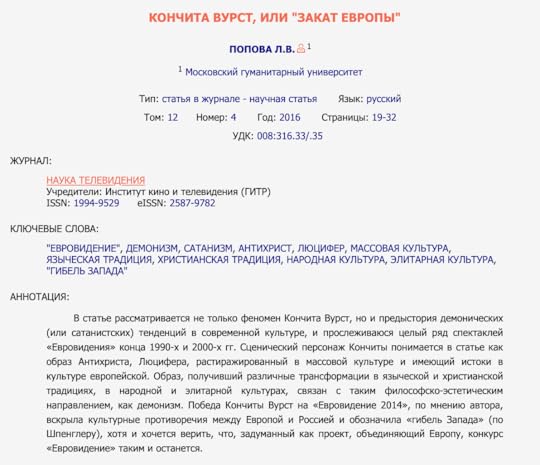
А вот статья в журнале «Радиационная биология» Академии наук РФ. Называется она «Воздействие электронной гомеопатической копии удобрения биогумус на развитие рассады томатов». Она рассказывает про
«…электронные гомеопатические копии препаратов, приготовленных не традиционным разведением, а так называемым «импринтингом» исходного вещества на воду с помощью приборов М. Рея».
И ещё из ядра РИНЦ: в журнале «Новое литературное обозрение» есть статья «Двуликий анус (фантазия на французские темы для балалайки с оркестром)». Смешно, но из всего, что мы перечислили, похоже, это самая нормальная статья!
И наконец, в РИНЦ встречаются книги, которые даже не претендуют на научность — но проиндексированы как научная литература. Например, книга «Соционика идёт в школу». Что это вообще такое? Научная статья? Нет. Научная монография? Тоже нет, это просто пособие. То есть РИНЦ индексирует массу совершенно обычных изданий — всякие советы по садоводству и рыбалке, «карманное пособие по технике секса на природе», даже художественные романы — и они автоматически становятся как бы научными изданиями. Теперь при желании их авторы могут хвастаться тем, что имеют научные публикации. В результате с помощью РИНЦ статус учёного может получить и соционик, и гомеопат, и депутат.
При этом РИНЦ — это не просто какое-то посмешище. Многим людям крайне нужны публикации в РИНЦ. Кому-то они нужны просто для социального статуса. Другие люди отчитываются этими публикациями за гранты или перед работодателем — например, получают благодаря им небольшие надбавки к зарплате. А кто-то использует такие статьи для защиты дипломов и диссертаций.
Поэтому, к сожалению, существует целая индустрия, которая готова обеспечить вам индексацию в РИНЦ по доступной цене. Есть даже услуга – срочная публикация в РИНЦ за 24 часа. Чтобы вы понимали: ни один настоящий научный журнал в мире не сможет опубликовать статью за сутки — даже если её автор нобелевский лауреат.
А ещё можно обратиться в контору, которая обещает: «Теперь больше не надо беспокоиться. Мы работаем с проверенными редакциями журналов РИНЦ» — то есть с теми, которые не будут задавать вопросов и точно примут вашу статью! Цена вопроса – пара тысяч рублей.
Я понимаю, что по молодости или по незнанию кто-то может решить, что это принятая практика. Что ничего в этом страшного нет: вот она, публикация, с ней могут ознакомиться люди, и пусть сами разбираются, правда это или нет! Но на самом деле это совершенно отвратительная профанация. Ни о каком честном рецензировании здесь не может быть и речи, а значит, нет никакого фильтра, отделяющего науку от галиматьи. Поэтому, даже если вы честно провели исследование и написали статью — публикация таким методом обесценивает ваш труд. У неё не будет никакой легитимности в глазах учёных. Вы добровольно поставили свою работу на одну полку с экстрасенсами и теориями про русов и ящеров.
А как насчёт журналов из списка высшей аттестационной комиссии (ВАК)? Наверняка вы про него тоже слышали. Это чуть более высокий и престижный уровень журналов, чем РИНЦ. Если вы хотите получить степень кандидата или доктора наук, а ваши статьи не взяли в международные журналы, придётся публиковаться в журналах из списка ВАК. Увы, на тех же сайтах, где предлагают публиковаться в РИНЦ, есть и услуга публикации в журналах ВАК — с допуслугами обхода антиплагиата, с подбором журнала по желанию и даже с гарантией.
А если существует такая индустрия липовых публикаций, то что это значит? Во-первых, это разрушает всю систему научных репутаций. Человек может быть доктором наук, иметь кучу публикаций — и быть при этом полным антропоморфным дендромутантом (это Буратино по-научному). Вы наверняка слышали про проект «Диссернет».
Они нашли огромное количество псевдонаучных или сплагиаченных диссертаций, которые были защищены. Часть диссертаций удалось отозвать, а их авторов — степени лишить. И это огромная заслуга. Но во многих случаях ничего сделать не удалось — причём часто из-за административного давления. Так произошло с Мединским, который в своей диссертации сказал, грубо говоря: «Правильная историческая наука — это та, которая соответствует интересам государства». То есть заменил критерий истины критерием выгоды. И его диссертация до сих пор в силе, а сам Мединский дважды доктор наук. (Разумеется, международная база данных Scopus такого выдающегося российского учёного не знает.)
Если вы уважаете науку — надо бороться за то, чтобы липовые публикации наносили репутационный ущерб. Если кто-то купил себе статью, об этом должна знать общественность. И речь не только о депутатах, которые покупают себе диссертации для престижа. Если человек стал научной шишкой в том числе за счёт плохих статей и книг, он получает хорошее финансирование. А значит, отбирает эти ресурсы у честных учёных и одновременно плодит дезинформацию.
Мне кажется, что если бы существовал ад, то отдельный круг в нём был бы для тех, кто создаёт фабрики липовых диссертаций и фейковых статей. Причём, как уместно заметили в одном околонаучном меме, в этом кругу никого бы не было. Как только туда попадает очередной мракобес, его сразу подхватывают черти и несут в другой круг ада: наказывать за чужие или сфабрикованные грехи. С новым набором наказаний каждые три года.
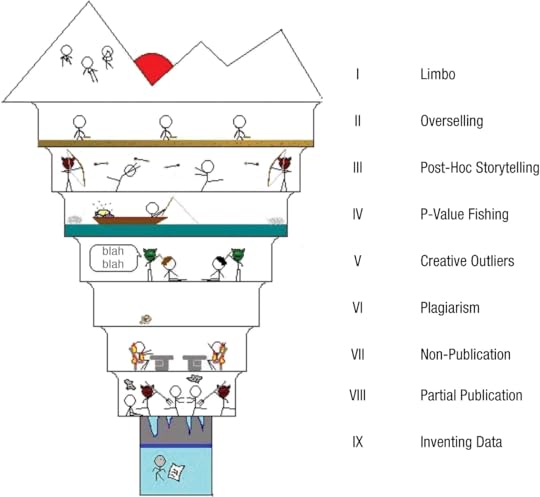
Авторы КРИНЖа и сочувствующие провели два серьёзных, очень полезных журналистских расследования — в ходе которых раскрыли, как некие люди получили очень большие деньги за публикацию очень сомнительных статей. Например, вот расследование 2023 года: «158 миллионов на лженаучные госзадания». Авторы обратили внимание на конференцию в Академии наук, где была куча псевдонаучных докладов. Например, «Фрактальный геном / фрактальный рак / наука для клинических последствий реального мира». Или «Концерт генетической музыки, трансляция из Московской государственной консерватории имени Чайковского». Адепты этой генетической музыки предлагают «смотреть на музыку как на игру в бисер двойных чисел», потому что «ДНК — это метатекст». Авторы утверждают, что раскрыли вселенский фрактальный секрет, по которому существует весь мир. Они даже предложили методику, которая позволит детям «развивать слух с помощью биоинформационных технологий и фрактально организованных пентаграммных ладов». Не пентатонических (то есть с пятью тонами), а пентаграммных! И это статья тоже в ядре РИНЦ.
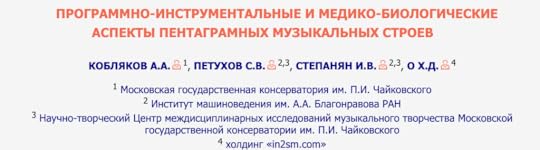
Админы сообщества КРИНЖ заглянули в послужной список автора этих статей, Петухова, и увидели целую цепь улик-публикаций. Оказалось, что генетическая музыка — не просто чудачество. Её разработали по госзаданию «Биомеханика систем “человек – машина – среда”». На которое выделили 158 миллионов рублей из федерального бюджета. Чем же отчитались за выполнение этого задания? Теми самыми статьями в РИНЦ про генетическую фрактальную музыку. А в следующем году Петухов вообще сдал всего четыре препринта. И всё это расследование команда КРИНЖа раскрутила из смешных статей в РИНЦе!
Было ещё одно полезное расследование. Король КРИНЖа нашёл ряд статей нескольких учёных, где говорилось про «бесконтактное влияние на клетки биологизированным излучением с помощью прибора Феникс-М». Казалось бы, обычная реклама сомнительного прибора; но странность в том, что этот прибор, «Феникс-М», даже нельзя найти или купить! (Правда, можно купить диваны с аналогичным названием… может, диван является прибором…?) Тут Король заметил, что все эти публикации были сделаны при поддержке грантов РФФИ — Российского фонда фундаментальных исследований. Вообще это очень хорошая организация: они поддерживают в том числе и сложные, пока что неприменимые на практике исследования. Деньги обычно небольшие — но помогают не умереть с голоду учёным, которые занимаются фундаментальными проблемами. Тем страшнее, когда эти небольшие деньги тратятся на поддержку бредовых статей про биорезонанс.
Так, авторы говорили, что химическую молекулу АТФ — основной носитель энергии в нашем организме — можно передавать телепатически на расстоянии. Или записывать на светодиоды. Сказать, что это бред — ничего не сказать! А Король Кринжа стал искать, сколько грантов ушло на эту чепуху. Оказалось, семь статей, на которые выдали семь грантов, были опубликованы в одной и той же платной мурзилке — прямо в одном номере! И знаете, за какие деньги предлагают купить статью в этом журнале? Всего 400 рублей! За три года там умудрились напечатать таких статей почти три тысячи.
Получается, напечатал ужасную статью за копейки — а от государства за неё получил грант на сотни тысяч. Неплохо! Оказалось, что всего за 16 статей, каждая условно по 400 рублей, любители биорезонанса смогли получить от государства… Семьсот тысяч рублей, ещё семьсот, ещё семьсот, миллион, ещё миллион… В итоге — как минимум 14 грантов в общей сложности на 12 миллионов рублей!
Кстати, держите анекдот. Мои коллеги однажды ехали в купе поезда и обсуждали научные статьи. Мол, «у меня недавно вышла такая-то статья». И мужчина рядом оживился: «О, у вас есть статья? Круто! У меня тоже есть статья! А у вас административная или уголовная?».
Вред от кринжовых статей на самом деле гораздо более масштабен и в каком-то смысле касается каждого из нас. Но что может сделать сам РИНЦ? Очень сильно ужесточить модерацию журналов. Грубо говоря, выкинуть ещё не 300, а тысячу журналов. И ввести строгие критерии для включения в РИНЦ. Далее, ввести общественный контроль. Скажем, вышел пост в КРИНЖе — и сотрудники РИНЦ могут пойти и проверить, что за журнал: единичное ли нарушение или систематическое. И потом, учёные и так сами следят за наукой. Они могут сами писать в РИНЦ, что обнаружили подозрительную статью про астрологию или биорезонанс. А РИНЦ проверяет это — и сразу выкидывает журнал. Нужно лишь сделать удобную систему обратной связи.
Если совсем размечататься, можно попросить РИНЦ сделать список, наоборот, некачественных журналов, в которых публиковаться не рекомендуется. Далее, ВАК может изменить свои требования к тем, кто защищает диссертации. Например, как минимум в естественных науках можно ввести требование иметь международные публикации. Так учёного смогут проверить те, кто никак не связан с ним или с его начальством. Также у нас есть «закон о забвении». Он мешает «Диссернету» отзывать фейковые диссертации из-за истечения срока давности. Возможно, это неправильно — у научного подлога не должно быть срока давности. Ведь сегодня учёные порой ссылаются на статьи, которые написаны 50 или даже 100 лет назад.
Мы видим, что есть «фабрики публикаций», которые предлагают фиктивно опубликовать работы, скрыть плагиат, подкупить редакцию. Так вот, легально ли это? В других областях подобные вещи часто квалифицируются как уголовное преступление. А если всё же легально — почему бы это не изменить?
Допустим, вы хотите поддерживать суверенную, русскоязычную науку. Тогда за статьи на русском языке журналы могли бы платить авторам, а не наоборот! Так сделали недавно в ЮАР, где научное издательство назначило премию всем, кто печатается на национальном языке африкаанс. А вот журналы, которые печатают мусорные статьи за деньги, и сотрудников таких издательств я призываю бойкотировать. Причём я не призываю вводить какую-то цензуру. Каждый может писать всё, что он хочет, например, в блоге. Даже самые эксцентричные и странные вещи. Но давайте не будем называть это наукой, а журналы, публикующие дичь, – научными журналами.
А что мы, обычные люди, из научного сообщества и сочувствующие, можем сделать прямо сейчас? Во-первых, поддерживать классных ребят. Вы уже поняли, что нужно подписываться на КРИНЖ, а также следить за «Диссернетом». Но есть и другие классные организации и люди. Например, Общество научных работников, ОНР. Они защищают интересы научного сообщества и борются за качество науки. Это, можно сказать, профсоюз российских учёных. Они освещали историю с чисткой РИНЦа от мусорных журналов и поддерживали «Диссернет». Другая организация, о которой нужно знать — АНРИ, Ассоциация научных редакторов и издателей. Это те ребята, у которых сильнее всего бомбит от «статей за 24 часа». Они вырабатывают способы, которыми можно улучшить качество работы научных журналов в России. И отдельно я хочу похвалить конкретного человека: это академик Алексей Хохлов. Он делает очень важное дело, защищая критический подход к сомнительным научным публикациям. Алексей Ремович — член комиссии по противодействию фальсификации научных исследований Российской академии наук.
К сожалению, тут я буду вынужден немного покритиковать и саму РАН: у неё сейчас очень серьёзные проблемы. Ведь беды российской науки не ограничиваются бедами РИНЦ. По мнению многих моих коллег, большой вред российской науке принесло слияние трёх академий наук в одну: к РАН присоединили академию сельхознаук и медицинскую академию. Высокий уровень «старшей» академии разбавился, в ней появилось много сомнительных деятелей. Хуже того, они стали «протаскивать» в РАН других странных людей. Ведь новых членов РАН выбирают голосованием. И в 2019 году, несмотря на скандалы, в академию избрали людей с плагиатом в научных работах, или, например, «друзей» одной крупной гомеопатической компании. Поэтому, хотя в РАН пока нет Кадырова, зато уже есть гомеопаты.
А когда комиссия РАН по борьбе с фальсификациями научных исследований и комиссия РАН по борьбе с лженаукой выступили с критикой происходящего — их возможности и автономию сильно урезали. Победил принцип «давайте не выносить сор из избы и не огорчать уважаемых людей» — и не беда, что эти уважаемые люди занимаются плагиатом и лженаукой. Теперь ко всем этим проблемам добавьте то, что в последние два года огромная часть учёных, которые публикуются в качественных мировых научных журналах, уехали. А значит, влияние сомнительных учёных только укрепилось.
И всё-таки я не хочу, чтобы у вас осталось впечатление, что в России нет хорошей науки и хороших учёных. Наоборот. И тем из них, кто остался, и так непросто. Им сложно закупать реагенты из-за санкций. На них очень сильно давят со стороны администрации, за личные взгляды или просто критику начальства. И это то, что я предсказывал в своей новелле «Апофения»: может появиться мир, в котором всё перевернётся. То, что было лженаукой, будет считаться наукой. И когда в науке перестанут преобладать люди, которые реально занимаются объективным поиском — легко представить, что и в суде ваше дело будут рассматривать с участием астрологов и тарологов (уже сейчас привлекают «деструктологов»). А при приёме на работу вас будет проверять соционик. И в школе детей будут учить правильно толковать приметы.
Порой от некоторых людей я слышу такую мысль: ну и хорошо, что в России наука разваливается. Мол, поделом. Конечно, я не могу с этим согласиться. От плохой науки, мракобесия и нормализации людоедской этики — признаков кринж-науки — страдают все. А чем больше в мире будет критически мыслящих, образованных и осведомлённых людей, тем безопасней будет наше всеобщее существование.
Говорят, что рыба гниёт с головы. В стране, где разрушена наука, головы просто нет. И я очень надеюсь, что все те, кто остались и сочувствует российской науке, смогут что-то исправить.
Ссылки — https://docs.google.com/document/d/1LyRBolxL-9R6IFelO6_zXmQknECK3jGTIrbBiK-pL-A/edit
June 14, 2024
Продолжение лекционного тура
Но приключение продолжается. Вторая часть тура снова начинается с Вильнюса, а дальше я поеду в Ригу, Тбилиси, Хельсинки, Варшаву, Люксембург, Будву. Жду скорой встречи! 🙂 Все подробности по ссылке. https://scinquisitor.taplink.ws/
P.S. А если хотите, чтобы я приехал в ваш город — на моём сайте есть анкета, где можно оставить заявку. Заполняйте сами и зовите друзей: чем больше заявок — тем больше вероятность, что я приеду именно к вам!

June 12, 2024
Гранты, деньги, два журнала. Инсайды о научных изданиях
Как учёные пишут научные статьи – и как журналы их проверяют;
Почему университеты платят миллионы долларов за подписку на статьи, написание которых они же и финансировали;
Следит ли кто-нибудь за тем, чтобы учёные не писали всякую ерунду – и кто им за это платит;
Правда ли, что мир научных журналов — это “научное лобби”, где “всё захвачено”?
Каким был мой первый раз? Самую первую свою научную статью я опубликовал в 2008 году. Она называлась “Мусорные EST человека: последовательности из библиотек К-ДНК, которые не совпадают со сборкой генома”. Мы взяли базу человеческого генома, то есть всю нашу ДНК – 3 миллиарда нуклеотидов. Потом взяли базы данных с образцами человеческой РНК. И стали смотреть: нет ли в базах РНК генов, которые не встречаются в геноме, в ДНК. Это было бы странно: ведь РНК копируется с ДНК. А значит, если мы найдём такие странные гены, то это одно из двух: либо произошла ошибка, загрязнение образцов посторонним материалом (поэтому “мусорные EST”). Либо мы открыли новые гены человека. Это интригует!
И мы действительно нашли в базах данных 11 000 последовательностей РНК, которых нет в геноме. Правда, в итоге оказалось, что это были в основном загрязнения образцов — гены от разных бактерий, растений и животных. Но было ли это неудачей? Нет. Мы снова убедились, что геном прочитан достаточно точно. А ещё показали, что в базах РНК довольно много мусора – и смогли его классифицировать.
Вот такой была моя первая научная работа: небольшая, скромная, но в нормальном, международном рецензируемом научном журнале. Маленький кирпичик в огромном здании науки. И уже тогда я понял, что нужно невероятное количество усилий и времени, чтобы написать даже коротенькую научную статью. Смотрите: год ты готовишь материалы для статьи. Потом ещё в течение года переписываешься с журналом, отвечаешь на замечания рецензентов, дорабатываешь текст. Так вышло и с этой статьёй: начал я её на 3 курсе, а вышла она, когда я уже шёл на диплом.
При этом параллельно я уже был научно-популярным журналистом, писал для крупных изданий – “Вокруг Света”, “Популярной механики”, Forbes. И по сравнению с научной статьёй написать научно-популярный материал — почти три секунды! Пару дней подбираешь материал и пишешь текст, ещё несколько дней редактируешь и проверяешь факты. А через неделю статья уже напечатана. Поэтому, когда говорят, что учёный написал научную статью, нужно понимать, что за этим чаще всего стоит. Некоторые статьи пишутся годами. Это совсем не то же самое, что пост в блоге о том, как ты провёл лето.
Возникает вопрос: если проще написать статью о науке в известное СМИ, причём её прочтёт в несколько тысяч раз больше людей – зачем заморачиваться с научными журналами? А я вам отвечу: например, чтобы о вашей работе узнали профильные специалисты.
Вот самый известный научный журнал – Nature. Известный он не только потому, что на слуху и давно издаётся — существуют специальные метрики, по которым можно доказать его крутость. Например, h-индекс, он же индекс Хирша. У Nature он самый высокий из всех научных журналов: 1331. Что это значит? За время существования этого журнала вышло не меньше 1331 статьи, каждую из которых процитировали в других статьях не менее 1331 раза.
Например, вы учредили журнал, опубликовали три статьи. Одну процитировали 5 раз, другую 2 раза, а третью не цитировали. Тогда у журнала будет h-индекс 2: две статьи процитировано 2 раза или больше. Так что Nature – топ из топов. На втором месте по h-индексу – журнал Science, на третьем – New England Journal of Medicine. И уже ниже Cell, The Lancet и другие.
Даже если вы никогда не открывали научных журналов, вы наверняка слышали о работах, которые опубликованы в журнале Nature:
Впервые прочтён геном человека — это Nature;
Клонирование овечки Долли — Nature;
Молекула ДНК – это двойная спираль — Nature;
Расшифрован геном неандертальца — журнал Nature;
Открытие тектонических плит — журнал Nature;
Впервые расщеплено ядро атома — журнал Nature;
Нейтрон, пульсары, озоновая дыра — Nature, Nature, Nature.
Короче, совершил революционное открытие, метишь на Нобелевскую премию, хочешь стать великим – неси статью в Nature. Но, надо сказать, даже в таком топовом журнале порой публикуется лажа – каждый год из издания отзывают 5-6 статей с ошибками, плагиатом, недочётами или подлогами. Кто-то скажет: “Вот видите, ваш хвалёный научный журнал отозвал статью, переобулся”. Но это скорее признак здоровья журнала. Это значит, что его редакция бережно относится к своей репутации: неудачную статью отозвали и объявили об этом публично, на весь мир. Наука не про то, чтобы никогда не ошибаться. Она про то, чтобы исправлять ошибки.
Итак, вы решили опубликовать научную статью. Как устроена вся эта система? Давайте проследим весь процесс от начала и до конца. Итак, допустим, вы провели исследование: получили новые результаты, проверили свою гипотезу. Теперь это надо записать в специальном формате.
Вам надо написать “абстракт”, краткое содержание;
Потом введение – это история вопроса и обзор литературы;
Дальше самое важное – описание метода (что и как вы делали) и результатов (часто без толкований, только факты и цифры);
А затем обсуждение (то есть ваше мнение, как толковать результаты, сравнение с другой литературой) и выводы.
В идеале вам надо писать статью на английском языке. Сейчас 99% всего стоящего в науке публикуется на английском: это lingua franca, общий язык для учёных. Ведь если вы пишете на английском, вас могут читать и цитировать коллеги со всей планеты. И если вы откроете рейтинг топовых научных журналов по цитируемости, то увидите, что в первой сотне всего 2 журнала из неанглоязычных стран (но они тоже издаются на английском языке). Поэтому преподавание английского языка так важно для любой страны, которая стремится быть сильной в науке.
Итак! Статья написана, теперь нужно её опубликовать! Скорее всего, вы ищете самый престижный журнал, который подходит вашей статье по профилю. Допустим, для моей статьи это Journal of Bioinformatics. Что дальше? Присланную статью получает редактор. Пробегает её взглядом, чтобы посмотреть: подходит ли текст к тематике журнала, не явный ли это бред? Редактор отправляет статью нескольким независимым рецензентам. Обычно это уважаемые учёные, причём, как правило, из другого города или даже страны. Нередко это люди из вашего же списка литературы: раз уж вы сослались на них в статье, пусть они и проверят – не чушь ли вы написали?
И тут есть очень важный механизм защиты: чаще всего рецензенты делают свою работу АНОНИМНО. Например, если вы большой начальник, а рецензент ниже вас статусом – вы можете ему за критику отомстить, уволить, оговорить. Как минимум написать ему плохую рецензию в ответ или отказать в гранте. В общем, учёные тоже люди. Поэтому, чтобы рецензент оценивал работу непредвзято, его имя знает только редактор. Но бывает и полностью противоположный подход. Не только имя рецензента известно — его рецензия публикуется рядом со статьёй! Тогда он публично в ответе за рецензию: все могут оценить, справедлива ли критика, что на неё ответил автор и как защитил свою работу.
А как всё это выглядит с точки зрения рецензента? Ну, во-первых, рецензентам ничего не платят. Это добровольная работа, которая отнимает кучу времени и сил. Думали, проверять домашку в школе – это морока? Попробуйте отрецензировать научную статью.
Сначала нужно её внимательно прочитать. Потом вежливо сформулировать, с чем согласен, а с чем – нет. Если не согласен – ты САМ должен найти ссылки и цитаты, залезть в книги и базы данных, обосновать претензию. При этом, в отличие от комментариев в интернете, ваша задача – не обругать, а улучшить статью. Если это в принципе возможно.
Я много раз участвовал в рецензировании. Скажу по своему опыту – всё это ты делаешь по единственной причине. Потому что тебе не всё равно. Ты хочешь, чтобы в твоей области выходили хорошие статьи, а плохие не выходили. Но бывает и так, что приходится зарубить не очень хорошую работу.
У рецензента есть разные опции:
Можно одобрить статью: публикуйте как есть, вот мелкие замечания;
Можно принять, но на условии, что авторы исправят косяки;
Можно отметить, что замечания серьёзные, авторам придётся вернуться в лабораторию и всё доработать;
А можно дать категорическое “нет”. Статью принимать нельзя, и вот почему (а дальше длинное объяснение).
При этом обычно рецензента два. Если их мнения совпали, редактор следует их решению. А что, если оценки двух рецензентов не совпали? Один сказал: принимать, другой: ни в коем случае. Тогда могут привлечь третьего рецензента!
В общем, учёные тратят на рецензирование кучу времени. Многие даже говорят, что процесс этот устарел и тормозит развитие науки. При этом почти все мои научные статьи стали лучше благодаря рецензентам. Хотя однажды мы с рецензентами так глубоко закопались в доработках (там был тот самый “третий рецензент”, который попросил “дополнительный анализ”), что они заняли целый год. В итоге у нас иссяк запал, мотивация и время – и мы просто бросили это исследование. Просто выгорели. А буквально недавно я столкнулся с тем, что нашу статью прочитали аж 4 рецензента. Все статью одобрили (не без полезных замечаний, но даже с хвалебными комментариями), но в публикации журнал всё равно отказал. Ну что ж… Всё поправим и будем повторно подавать! Я считаю, что уж лучше так, чем если бы мы просто выпустили халтуру и побежали дальше.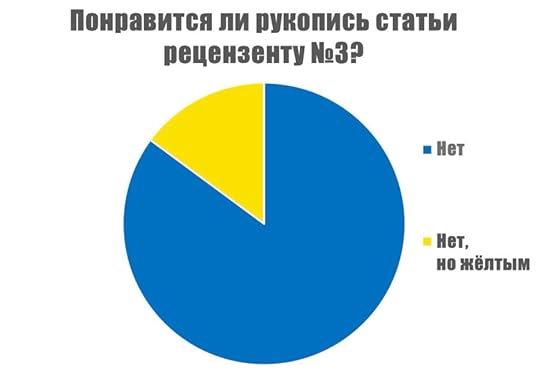
С рецензентами понятно. Теперь вернёмся к автору. Как продраться через рецензирование?
Первое. Автор обязан ответить на ВСЕ пункты рецензии. Это не как в интернет-срачах, когда тебе написали полотно, а ты просто отвечаешь “Автор не в теме, учи матчать, сам-то понял что сказал”. Любое замечание нужно обсудить, а своё несогласие – обосновать;
Второе. Недопустим никакой переход на личности, оскорбления, перепалки, даже подколки – всё, что мы видим в интернет-спорах. Иначе редактор просто пошлёт вас лесом. Поэтому, даже если рецензент написал полную чушь, автор отвечает: “Мы очень благодарны рецензенту за изложение его ценного мнения, но вынуждены не согласиться, исправлять мы это не будем, и вот почему — и дальше пруфы”.
Есть миф, который меня очень раздражает: мол, бывают великие учёные современности, недооценённые гении, которые сделали великие открытия, а научных публикаций у них нет. Действительно, бывает такое, что смелая, новая идея сходу не прошла в публикацию. Может, журнал завален заявками. Или рецензент оказался консерватором или дураком. Главный редактор Nature как-то вспоминал, скольким великим открытиям они поначалу отказали. Среди них – технология МРТ (её изобретателю вообще долго не верили), радиация Черенкова, предсказание мезона, даже радиация Хокинга.
Но вот в чём дело: если вашу публикацию не приняли в Nature, можно податься в издание попроще. А потом в другое… третье… Но если ваш великий прорыв в торсионных полях не взял НИ ОДИН научный журнал – значит, дело, скорее всего, не в журналах. А вот если ваша статья хоть сколь-нибудь стоящая, а у вас есть хоть какое-то желание её опубликовать – вы в любом случае её опубликуете. В этом есть и минус: значит, и плохую статью тоже, скорее всего, получится напечатать. Не взяли в первом журнале, пошлём во второй, пятый, десятый – пока не найдём тех, кто её пропустит, не читая. Если что, это не призыв к действию, а описание реальности.
А что, если статью нужно выпустить прямо сейчас? У вас на руках сенсационное открытие, другая команда наступает вам на пятки, счёт идёт на дни… на часы… на секунды! Я в таком не участвовал, но на переднем краю науки такие “гонки на журналах” случаются. Так вот, есть один инструмент, который позволяет застолбить за собой первенство: это препринт (предпечатный вариант статьи). Препринты публикуют на специальных сайтах-репозиториях: например, ArXiv или Research Square. Препринт не учитывается как настоящая публикация: например, по нему обычно нельзя отчитаться по гранту, а цитирование препринтов порой не одобряют.
Но у препринтов есть и плюсы. Так, базовое правило учёных – одну и ту же научную статью нельзя публиковать в нескольких журналах. Это всегда эксклюзив. А препринта это не касается. Ты публично объявил о своих результатах, застолбил открытие. А потом можешь выбирать, в каком издании опубликоваться. Некоторые сервисы препринтов даже имеют механизм автоматической подачи в дружественные журналы – надо только кнопочку нажать. При этом препринт не проверяют рецензенты: ответственность за качество текста несёшь только ты. Это не значит, что можно публиковать любую фигню: на сервисах препринтов довольно строгая модерация. Но науку за тобой они особо не проверяют.
Такая “гонка на препринтах” была во время пандемии ковида. Помните, была шутка про то, как все стали вирусологами? Так вот, это не шутка: буквально все пытались опубликовать препринты про ковид, вирусы и вакцины. Сервисы препринтов были буквально завалены заявками, и им пришлось сильно ужесточить модерацию – чтобы опасная дезинформация не разошлась в обычных новостях. А такое бывает. И если вы видите в СМИ необычные заявления, а ссылка идёт на препринт – знайте, что его не проверяли рецензенты. В настоящий журнал статья может и не пройти.
Зачем вообще учёные публикуют научные статьи? Понт, хайп, деньги? Говорят, что каждый учёный на зарплате у какой-то корпорации, иначе зачем бы им всё это писать?
Есть несколько вполне объяснимых причин, зачем. Во-первых, научные публикации — это и есть результат твоей научной работы. Как фильмы у режиссёра. Или дома у архитектора. Надо понимать, что значительную часть своего рабочего времени учёные читают научные статьи других учёных. А потом обсуждают с другими учёными статьи тех учёных, которых они недавно читали. Поэтому для коллег со всего мира ты существуешь, только если публикуешься.
Во-вторых, научными статьями учёные отчитываются перед теми, кто их финансирует: за научные гранты (в основном от государства), перед институтом или университетом. Так они показывают, что не занимаются фигнёй на рабочем месте. Тут вы можете сказать: получается, любые статьи — заказные, за деньги! Но “заказчик” научной работы чаще всего не влияет на её содержание. Научные фонды не предлагают вам темы, а лишь оценивают ваши заявки – причём делают это обычно всё те же рецензенты из пула самих учёных. И даже когда ты отчитываешься по гранту за деньги, тебя оценивают не чиновники, а твои коллеги-эксперты. А чиновников интересуют только цифры: сколько публикаций, в каких журналах.
В-третьих, публикации – это карьера, престиж. Опубликованную работу могут процитировать. А цитирование – это для учёного типа рейтинга, тебя узнают, приглашают на конференции, предлагают повышение. Поэтому у учёных есть интерес публиковаться чаще. Увы, это одна из причин, почему нередко публикуются и плохие работы.
Подождите, а как же деньги? Как построены финансовые взаимоотношения в научных журналах? Я слышал такой странный миф: что исследования якобы финансируются научными журналами. Написал что-то неугодное “Большой Науке” – и журнал перекрыл тебе финансирование. Но на самом деле журналы не платят учёным за статьи – скорее наоборот, иногда учёные могут приплачивать журналам за публикацию. Чаще всего не из своих личных средств, а из средств госфинансирования. А изначально научные журналы существовали в единственном формате – подписного издания. Читатели платят за подписку, им рассылают напечатанные экземпляры. За счёт подписок редакция оплачивает услуги редакторов, корректоров, верстальщиков, типографии и так далее.
Но если мы посмотрим, сколько сейчас стоит купить доступ к научным журналам, мы немножко офигеем. Для некоторых очень специализированных тематик можно отвалить десятки или даже сотни евро за одну-единственную статью. Да и обычная подписка недешёвая. Например, чтение журнала Nature плюс пакета журналов того же издательства обойдется вам в 25 евро в месяц. Годовая подписка – в 185 евро. И это доступ лишь к относительно новым статьям, с 2017 года.
А доступ к журналам очень важен. Но если бы учёный платил за чтение каждой статьи даже по 10 евро, он бы потратил всю свою зарплату только на материалы для чтения. Вот моя собственная статья в специализированном журнале, Critical Reviews in Biotechnology. Доступ к её скачиванию всего на двое суток обойдется вам в $61. Ну или можно купить весь выпуск журнала — всего за 751 долларов! Ни в коем случае её не покупайте! Из этих 61 долларов я получу ровно ноль центов. Все учёные передают статьи издательствам безвозмездно, никаких авторских отчислений не предусмотрено.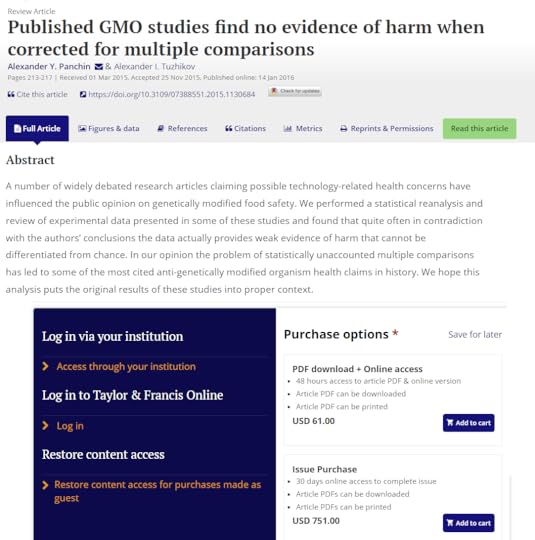
Но не буду вас пугать — в реальной жизни учёные не покупают статьи. Обычно они сидят в учреждении, которое само оптом покупает подписки на огромные базы данных журналов и библиотек. А за учреждение платит государство или спонсоры. Просто большие научные издательства, типа Elsevier и Springer, пытаются выжать максимум из своего положения: например, с бедных институтов они берут меньше, а с богатых — больше. И суммы получаются иногда огромные. Например, самые крупные университеты США платят за подписки по 10 миллионов долларов в год. Получается, государство и университеты оплачивают учёным производство текстов, а потом издательские группы продают им доступ к этим же текстам за миллионы долларов. Схема явно не идеальная.
К счастью, есть и другие вполне легальные способы получить научные статьи. Например, существует специальная социальная сеть для учёных ResearchGate. Туда можно бесплатно загрузить статью в открытый доступ. А если по договору с издательством этого сделать нельзя, всё равно можно написать автору (в этой системе или просто на почту), и тот тебе её пришлёт. Это законно. А ещё можно просто попросить коллегу из крупного научного института – он скачает тебе статью или даст по секрету доступ.
Но в целом вся ситуация вокруг доступа к научным статьям крайне сомнительная. Многие жёстко критикуют засилье огромных издательских групп. Действительно, куча денег тратится непонятно зачем. При этом само ограничение доступа к статьям странно – ведь их авторы не получают за них ни копейки. А в итоге доступ к знаниям произвольно ограничивается – если ты учёный из бедной страны или маленького города, ты не можешь читать научные статьи, которые студент в столице получает бесплатно. Поэтому некоторые издательства перешли на новую систему распространения знаний: open access, “открытый доступ”.
Все статьи доступны всем бесплатно – но при этом за публикацию платит автор. Расценки за публикацию – от нескольких сотен до тысяч долларов. По идее, эти деньги идут на то, чтобы закрыть расходы журнала: редакторов, корректоров, хостинг сайта и так далее. Но, конечно, частные издательства на этом зарабатывают. По моим ощущениям, эти цены сильно завышены — но есть и плюсы: так можно делиться своей работой без всяких препон и сохранить 100% авторских прав. Правда, и у системы OpenAcess тоже есть множество проблем.
Безусловно, есть куча хороших, авторитетных open-access журналов, где выходят первоклассные статьи. Но также система платных публикаций породила целую индустрию мусорных журналов-хищников, чья единственная цель – слупить деньги с малоизвестных или начинающих авторов. При этом они доходят до откровенного скама. Они безжалостно спамят всех учёных, зовут кого попало в рецензенты и редакторы, вообще не следят за качеством рецензий, берут абсолютно любые статьи (даже не проверяют на плагиат)... и в целом роняют общий уровень публикаций на самое днище.
Какой спам вам обычно приходит? Скорее всего, письмо счастья от нигерейских принцев, реклама быстрого заработка и семинаров по саморазвитию? А так как я кандидат наук и публиковался в научных журналах, мне каждый день приходит спам от мусорных издательств.
Двух ученых так задолбал “научный” спам, что они написали в мусорный журнал статью под названием “Исключите меня из вашей долбаной рассылки”. С очень наглядными иллюстрациями.
И эту статью приняли в журнал.
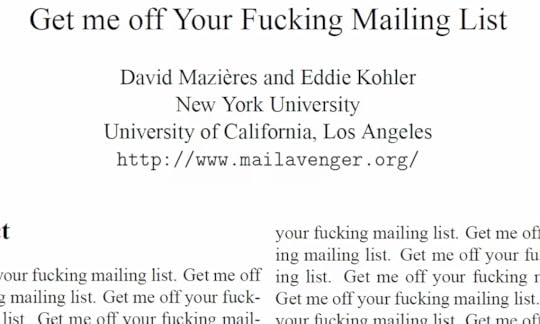
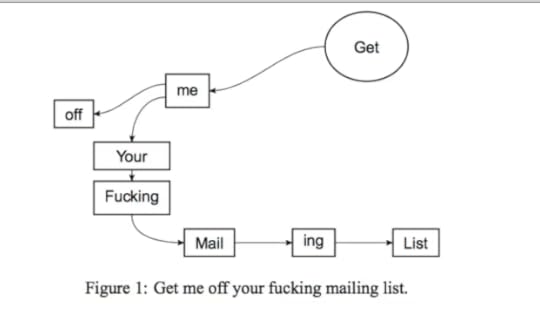
А в 2008 году ещё один учёный Джеффри Бэлл тоже задолбался получать такой спам и объявил войну мусорным журналам. Он разработал метод – как отличать мусорные журналы и находить у них общие признаки. Оказалось, что в десятках таких журналов часто одни и те же редакторы, а все рецензенты – из одного и того же региона. Ещё у этих журналов нет договоров с архивами и онлайн-библиотеками – то есть если журнал закроется, ваши статьи пропадут. А ещё название журнала не соответствует темам: например, в юридическом журнале печатаются статьи о вреде прививок. Бэлл начал составлять список таких изданий – “мусорных фабрик”. И к 2016 году там было уже больше 900 изданий.
Но учёные любят всё проверять. Поэтому список Бэлла тоже решили проверить: работает ли его метод, правда ли, что все эти журналы мусорные? Корреспондент журнала Science разослал сотням журналов (в том числе из списка Бэлла) заведомо плохие фейковые статьи. Статьи были правда плохие: мало того, что их генерировали с помощью скриптов, все они обещали чудесное лекарство от рака – то есть любой нормальный рецензент забил бы тревогу и пошёл бы проверять.
Всего версии фейковой статьи разослали в 304 журнала open access, то есть с платной публикацией. Из них 157 журналов приняли мусорную статью к печати. Всего ЯКОБЫ было проверено рецензентами 255 статей из 300. При этом по половине ответов рецензентов было ясно, что статью они даже не открывали. Только в 36 случаях рецензенты отметили нестыковки и проблемы. Но даже из них 16 всё равно приняли к публикации — только заплати!
А как же список Бэлла? Он сработал. Журналист отправлял фейковую статью не только в журналы из списка. Но из тех, кто есть в списке, приняли статью почти все: 82%. Со временем список Бэлла стал знаменитым – и издательства стали давить на него, обвинять в клевете. Действительно, в эксперименте Science 18% журналов всё же не приняли статью. А значит, каждый пятый журнал Бэлл действительно мог обвинить по ошибке. В итоге Бэлл убрал список из интернета – и даже говорил, что из-за списка ему устроили проблемы на работе.
Некоторые журналы работают по гибридной модели: ты публикуешься полностью бесплатно, редакция и рецензенты не зависят от твоих денег. А потом ты можешь заплатить небольшую сумму – и перевести свою статью в open access, с открытым доступом навсегда. Для некоторых учёных это отличный вариант. Плату может возместить их институт, их работа доступна всему миру, но при этом проверена солидным журналом.
Но были люди, которые радикально против издательского контроля, даже такого. Благодаря им появился знаменитый сайт Sci-Hub. По сути, это пиратский сайт, где по одному клику можно скачать абсолютно любую статью. Моё личное мнение — Sci-Hub сыграл очень важен, потому что заставил научные издательства меняться. И тут важно, что Sci-Hub не просто даёт доступ ко всем статьям – он даёт его гораздо удобнее, чем старомодные базы данных, по одному клику. Даже когда у тебя под рукой все подписки, ты часто заходишь в Sci-Hub, потому что так быстрее! Безусловно, у меня есть что обсудить с основательницей проекта Sci-Hub. Она — очень своеобразный человек, с которой я во многом не согласен, например, с её верой в астрологию, троицу и в то, что Сталин был Бог.
И всё же я очень ценю роль Sci-Hub в распространении научных знаний.
Напоследок расскажу, есть ли системы пост-контроля, которые сторожат сторожей – следят за самими научными журналами и ловят их на ошибках. Да. Одна из них – это организация COPE, Комиссия по этике публикаций. Она вырабатывает этические стандарты, которых нужно придерживаться журналам, создаёт пособия для редакторов и так далее. При этом комиссия обладает достаточным весом и авторитетом, чтобы давить на издательства: проводит независимую экспертизу статей, указывает издательствам на лажу — а журналы стараются это исправить, чтобы не потерять репутацию. Это как независимые испытатели безопасности автомобилей с их звёздочками. Они не могут заставить “Фольксваген” или АвтоВАЗ использовать эти звёздочки в рекламе, но если хочешь продать машину – будешь стараться эти звёздочки набрать.
Вторая важная организация – Retraction Watch. Они ведут базу данных отозванных научных статей. Retraction Watch тоже оказывает репутационное давление на журналы: если они не хотят отзывать мусорные статьи, предают это огласке на всё научное сообщество. Плюс можно зайти в их базу данных и посмотреть, у каких авторов много отозванных статей.
Есть системы типа PubPeer — “общественный рецензент”. Это сообщество, где любой учёный может рецензировать и комментировать уже опубликованные статьи. Конечно, это не значит, что все рецензии там адекватны. Просто есть дополнительная возможность ознакомиться с критикой.
По той же причине всё больше научных журналов открывают комментарии под научными статьями. И это работает! Зачастую под статьёй разворачивается полноценная научная дискуссия с участием авторов. Например, в известном журнале PLOS ONE однажды опубликовали статью, написанную гомеопатами. Я изложил в комментариях свою критику, на неё отвечали авторы, я продолжал гнуть свою линию – и в итоге редакция отозвала эту статью!
Я подробно говорил, почему система рецензирования – это хорошо. И многие учёные со мной согласны. Когда в 2008 году провели опрос, 85% учёных ответили, что рецензирование — скорее хорошо, чем плохо. Но при этом они отметили, что рецензенты выявляют далеко не все ошибки. И это реальная проблема.
В том же году в British Medical Journal вышло важное исследование. Авторы написали качественную статью, потом специально внесли в неё 8 ошибок. Выбрали 420 рецензентов и отправили им эту статью. В среднем рецензенты нашли 2 ошибки из восьми. Ни один не нашёл больше 5, а 16% рецензентов не нашли ни одной.
Что это говорит об институте рецензирования? С одной стороны, качество статьи улучшилось. С другой, мы видим, что рецензирование — совсем не панацея. При этом непонятно, как отловить больше ошибок. Да ещё и бесплатно. Я напомню: каждый год публикуется больше 5 миллионов статей по сотням разных специальностей. И единственные, кто могут найти эти ошибки — это сами же учёные. Только они разбираются в этих специальностях и могут проверить друг друга. Поэтому невозможно создать какую-то централизованную комиссию, которая выловит все ошибки во всех статьях. Для этого нужно откуда-то взять ещё одно человечество с таким же количеством учёных. Возможно, в будущем с этим отчасти поможет искусственный интеллект.
При этом есть миф, что топовые научные журналы гонятся за скандалом и громкими исследованиями. Но это не так. Для них гораздо ценнее стабильная репутация. Ведь кроме “жареных” статей раз в год они публикуют десятки обычных качественных статей каждый месяц. Но есть хорошая новость: учёные — зануды. Они любят выискивать и подмечать ошибки. И если статья важная, вызвала много шума и споров, то это значит, что её проверят тысячи самых дотошных глаз на планете. Мало того, если эти зануды что-то плохое найдут — журнал тоже потеряет репутацию и понесёт убытки. Ведь хорошие авторы не захотят в нём печататься, а другие учёные — его читать.
А сейчас – время подвести итоги. Как видите, вокруг системы научных журналов и издательств есть много проблем и споров. И что её ждёт в будущем, я предсказать не берусь. Но я могу уверенно сказать, зачем она нужна прямо сейчас.
В XVIII веке в Европе было не так уж много крупных учёных: все они друг друга знали, переписывались, успевали читать все важные статьи и даже книги друг друга. У каждого из них была репутация: этот хитрец, этот скандалист, этот фанат своей теории, а этот светлый ум и звезда. Но с тех пор наука очень сильно разрослась.
Теперь невозможно знать всех и читать всё, даже в своей узкой специальности. Нам постоянно нужно оценивать учёных, чьё имя мы видим впервые. Для этого и нужны общепринятые метрики: индекс цитирования, индекс Хирша для журналов, история публикаций, рейтинги. Нужна система. И принципиально важно, чтобы эта информация была открыта и доступна всем: кто где публиковался, кто их проверял, на каком уровне, какая репутация у журналов и коллег. Все действия и слова учёных должны быть как в стеклянном доме — прозрачные и открытые.
Это важно для того, чтобы принимать решения: кого брать на работу, кого цитировать, за чьими гипотезами идти в своих исследованиях. Но это важно и для обычных людей! Если вы знаете, как отличить шарлатана с мусорными статьями от серьёзного учёного, проверенного сотнями других настоящих учёных — то вам будет легче решить, кому доверять и к кому прислушиваться.
Список литературы:
https://docs.google.com/document/d/16h-oCukIcC00B4Cyo77xr1QcY_VTwF1WNrwC8U3OcWU/edit
June 5, 2024
Как стать атеистом: моя история
В моей семье о религии говорили не очень много. Никто мне не указывал, верить или не верить. Тем не менее, в раннем детстве я к идее бога относился как к чему-то само собой разумеющемуся, особо не задумываясь. Помню, как меня пугала мысль, что есть существо, которое читает мои мысли и знает о всех моих плохих поступках. Особенно я боялся заповеди “не лжесвидетельствуй” – потому что мне казалось, что я могу случайно соврать самому себе, и это тоже будет считаться грехом. Например, я рассуждал так: “Вот скажу себе – завтра получу пятёрку в школе! А в итоге её не получу. Враньё, получается – буду в аду гореть”. Поэтому я мог часами повторять про себя мантру: “Я ни в чём не клянусь и ничего себе не обещаю”, чтобы бог был в курсе. Тревожные были времена.
У маленького меня были и другие суеверия.Так, в детском саду я случайно, независимо от Самуэля Ганемана, изобрёл гомеопатию. Мой отец тогда работал в Калифорнийском университете в Сан-Диего и привозил домой разные неиспользованные фильтры для очистки воды. В фильтрах были разные трубочки, с помощью которых один фильтр можно было соединить с другим. И я решил, что могу заряжать воду в этих фильтрах и придавать ей невероятные свойства. Своё изобретение я назвал “Водяной доктор”. Не совсем гомеопатия, но по смыслу очень похоже.
Будучи подростком я пытался вызывать духов. Дело было снова в Америке: у меня появился друг, который поведал, что знает магический ритуал. Для вызова духов нужно ночью нарисовать песком на камне пентаграмму, надеть защитный амулет (тоже с перевёрнутой пятиконечной звездой) и прочитать заклинание. Перед моим возвращением в Россию мы договорились встретиться ночью и вызвать духов. Увы, меня родители отпустили, а того почти 18-летнего мага – нет. На прощание он подарил мне мистический амулет и свиток с заклинанием. Амулет до сих пор хранится дома, а свиток я, увы, потерял.
Моя тяга к мистическому мышлению существенно поубавилась во время учёбы в гимназию №1543. Особенно после изучения предмета основы… нет, не православной культуры, а научного метода. На уроках нам объясняли, как устроена наука, как правильно ставят научные эксперименты, почему нужны контрольные группы, рандомизация и ослепление. Ещё мы должны были придумывать и проводить свои собственные научные исследования. Лично я изучал то, как уровень углекислого газа в носу влияет на частоту дыхания человека. Мне кажется, именно на этих уроках я впервые задумался, как мы получаем наши знания, как понимаем, что – правда, а что – нет. Вскоре я понял, что некоторые вещи, которые я принимал на веру, на веру принимать не стоит.
Потом я поступил в МГУ, а одновременно с этим у меня появился интернет. Там я стал смотреть разные дебаты о вере, религии и атеизме. Также я ознакомился с работами разных философов – и эти работы довольно сильно повлияли на моё мировоззрение. Сейчас я хочу перечислить некоторые аргументы, которые повлияли на моё отношение к религии. Можно сказать, благодаря в том числе этим аргументам я сначала стал агностиком, а потом – атеистом. Некоторые из них всем известны, но нельзя пропускать “базу”.
Аргумент первый – чайник Рассела
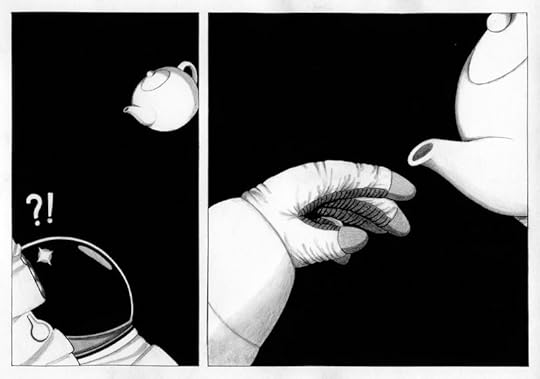
Однажды философ Бертран Рассел предложил поставить мысленный эксперимент. Итак, представьте себе маленький фарфоровый чайник, который летает очень далеко в космосе, вокруг Солнца. И он настолько крошечный, что его нельзя обнаружить никаким способом – ни телескопом, ни радаром. Мы не можем доказать, что чайник существует – но мы не можем и доказать, что его нет. Но являются ли два этих утверждения равнозначными? Что, если человек с пеной у рта доказывает, что он верит в чайник? А допустим, когда мы просим от него доказательств, он отвечает: “А ты сперва докажи, что чайника нет”. Корректно ли это требование?
Сам Рассел писал: “Многие верующие ведут себя так, словно не догматикам надлежит доказывать общепринятые постулаты, а наоборот – скептики обязаны их опровергать. Это, безусловно, не так. Если бы я стал утверждать, что между Землёй и Марсом вокруг Солнца по эллиптической орбите вращается фарфоровый чайник, никто не смог бы опровергнуть моё утверждение, добавь я предусмотрительно, что чайник слишком мал, чтобы обнаружить его даже при помощи самых мощных телескопов. Но заяви я далее, что, поскольку моё утверждение невозможно опровергнуть, разумный человек не имеет права сомневаться в его истинности, то мне справедливо указали бы, что я несу чушь. Однако если бы существование такого чайника утверждалось в древних книгах, о его подлинности твердили каждое воскресенье и мысль эту вдалбливали с детства в головы школьников, то неверие в его существование казалось бы странным, а сомневающийся – достойным внимания психиатра в просвещённую эпоху, а ранее – внимания инквизитора”.
Аргумент с чайником Рассела произвёл на меня большое впечатление. Я не смог придумать, чем идея бога лучше идеи такого чайника. Чайник даже более правдоподобен – ведь мы как минимум знаем, что космос и чайники существуют, а объекты могут летать по орбите. Сейчас целая тесла в космосе летает!
Есть такой принцип – отказ от двойного стандарта в аргументации. Это то, к чему я стремлюсь. Да, наш разум неидеален, мы можем ошибаться. И я решил: если своим аргументом я могу доказать что-то заведомо нелепое – например, что нужно поверить в летающий чайник, – то этот аргумент плохой и никуда не годится. А значит, от него нужно отказаться.
Аргумент второй – бритва Оккама
Этот принцип гласит – “не создавай сущностей сверх необходимого”. Моя интерпретация этой идеи: если есть два способа описать мир, оба дают один и тот же результат, но в одном из этих способов есть дополнительное допущение – это допущение нам не нужно. И бог сюда попадает: его существование – как раз лишнее допущение. Согласно легенде, Лаплас на вопрос Наполеона “Где в вашей научной картине мира бог?” ответил: “Я не нуждаюсь в этой гипотезе”. Есть бог, нет бога – не так важно, чтобы описать окружающий нас мир. Никто ещё на основе гипотезы о существовании бога не сделал нетривиальное предсказание о нашей планете или Вселенной. А вот научные теории позволяют делает проверяемые предсказания.
Чем неудачна гипотеза бога? Тем, что ей можно объяснить всё, что угодно – сказать “на всё воля божья”. Дети умирают от малярии? На всё воля божья! Дети не умирают от малярии? Слава богу!
Аргумент третий – мем про жопу Хэнка
Смешно? Да. Но зато очень наглядно. Это, по сути, рассказ про проповедников, которые пришли к человеку с рассказом про некую жопу Хэнка, которую нужно обязательно поцеловать! Иначе человек будет наказан. А вот после поцелуя человек сразу получит много денег. Правда, есть нюансы: деньги придут только когда человек уедет из города и пообещает никогда не общаться с другими жителями. При этом никто из тех, кто уходил из города, назад не возвращался. Но Хэнку нужно верить! И целовать его жопу. Вернее, жопу его представителя.
Это блестящая пародия на то, как работают проповеди. Людям, по сути, тоже говорят, что их ждёт некий рай, если они будут верить. А верить нужно потому, что так написано в некотором тексте – написанном тем, в кого надо верить. Абсурд? Но так оно и выглядит со стороны. Никаких доказательств существования бога никто вам предоставлять не собирается. Но вам нужно носить донаты в церковь, ставить свечи и жить по заповедям. Да, некоторые правила в целом нормальные – например, “не убей”. Но некоторые – совершенно абсурдные.
Вы спросите: “Как можно в таком серьёзном вопросе приводить аргументы про какую-то жопу?” А я вам отвечу: этот аргумент ничем не хуже, чем аргументы, которые приводят сами сторонники религий.
Аргумент четвёртый – множественность богов
Я услышал об этой идее от Ричарда Докинза, но изначально она принадлежит историку Стивену Робертсу. Аргумент звучит так: “Мы с тобой оба атеисты – просто количество богов, в которых я верю, на одного меньше, чем у тебя. Когда ты поймёшь, почему ты не веришь во всех остальных возможных богов, ты поймёшь, почему я отвергаю твоего”.
Существует множество потенциальных богов. Большинство людей не верят в них – и даже о них не знают. Чаще всего люди верят в какого-то одного бога – например, в христианского, который послал на Землю Иисуса и организовал всемирный потоп. Это бог с определённым характером, есть вещи, которые ему нравятся, а есть – которые нет. Но вдруг есть антибог? Который большой приколист и любит атеистов. В раю у него только атеисты сидят.
В общем, все мы – атеисты по отношению к куче богов. И даже папа Римский – атеист!
Аргумент пятый – антиномии Канта
По Канту, существуют разные антиномии – вопросы, которые, по его мнению, находятся за гранью познания. И вопрос существования бога – как раз один из них. Кант считал так: если бог не вмешивается в дела нашего мира, значит, нельзя понять, есть бог или нет.
На выходе получается агностицизм – и когда-то мне казалось, что именно такая позиция самая правильная. Не придраться. Действительно, нельзя доказать, что бога нет, как и нельзя доказать, что он есть. К тому же есть что-то приятное в том, что с такой позиции можно посмеяться и над верующими, и над атеистами. Ты как бы выше их спора.
А потом я начал активно смотреть дебаты между атеистами и агностиками. И тут получилось неловко. С одной стороны, и первые, и вторые в бога не верят. Но позиция атеиста такая: “Дайте мне доказательства, что бог есть”. И этот принцип можно последовательно применить к любым сказочным персонажам: я не буду верить в эльфов без доказательств, не буду верить в невидимых фей-извращенцев без доказательств и так далее. А вот позиция агностика – “Может, бог есть, а может и нет” выглядит не очень разумной, если заменить бога на иных вымышленных персонажей. Готов ли я говорить на полном серьёзе “Может, трансцендентальные рептилоиды с Нибиру существуют, а может и нет, кто же его знает”?
К слову, это миф, что атеисты говорят, будто бога 100% нет. Даже в нормальных науках мы редко в чём-то уверены на 100% и всегда допускаем шанс на ошибку. В науке даже требование такое есть – критерий фальсифицируемости. Всякая теория или гипотеза принципиально должна быть опровержима.
Думаю, любой атеист, если бы ему предоставили доказательства существования бога, с удовольствием стал бы верующим. Даже Ричард Докинз, неофициальный идеолог современного атеизма, поставил себе 6 из 7 баллов по шкале атеизма.
Однажды я услышал фразу, которая мне понравилась: “Атеизм – это агностицизм, только с яйцами”. И я с этим определением согласен. Атеисты допускают, что могут ошибаться, но не делают вид, что тезисы о существовании и несуществовании порождённых культурой персонажей равноценны. Хотя бы потому, что богов, в том числе взаимоисключающих, очень много. И вероятность того, что вы выбрали правильного бога, крайне мала. Или даже стремится к нулю.
Феномен веры также тесно связан с религиозными организациями, которые постоянно вмешиваются в нашу жизнь. В образование (привет, основы православной культуры), в медицину (запрет абортов), в науку (клонированию – нет, теологии – да). Вера и религия проникают везде, и стоять в стороне, не замечая это безобразие, тоже как-то странно.
Раз уж мы затронули мифы об атеизме и атеистах, позволю разобрать некоторые, наиболее популярные.
Миф первый – “Без религии не было бы морали”
Атеисты в глазах некоторых верующих – потенциальные воры, убийцы и лжецы. Согласно опросам в США, атеисты – категория людей с наименьшими шансами быть избранными в президенты. Ведь они не верят в ад и рай, а значит, им все дозволено!
Но вот представьте себе человека, который совершает добро для того, чтобы получить что-то хорошее – например, пропуск в рай. Искренне ли человек совершает добро? Может, лучше делать хорошие вещи просто потому, что хочется кому-то помочь? И не ждать ничего взамен? Есть смешной сериал о загробной жизни под названием The Good Place (“В лучшем мире”). Там показана занятная идея: если человек делает добро лишь для того, чтобы попасть в “хорошее место”, то есть в рай – это добро ему не засчитывается.
Вообще существует масса животных, в поведении которых мы найдём нечто крайне похожее на наши представления о морали, взаимовыручке и альтруизме. В книге “Истоки морали” Франс де Вааль подробно об этом рассказывает. А я приведу пример из одного научного исследования, опубликованного в журнале Current Biology. Учёные показывали попугаям монету и демонстрировали, что за неё можно получить еду. Кладёшь монетку в руку экспериментатора – вкусняшка твоя. Потом одной птичке дали монетки, а второй открыли окошко для кормления. Второй протянули руку: дай монету! Первый попугайчик увидел это – и передал товарищу монетку! Хотя сам не получал от этого никакой выгоды: просто покормил другого попугая. Бесплатно. И это не рефлекс – если у второго попугая нет возможности получить еду, никто ему монетки не передаёт. И не обучение – попугаев этому никто не учил.
Ещё один пример – муравейник. Рабочие муравьи вполне жертвуют собой ради блага коллектива. Животные проявляют такое поведение не потому, что у них есть легенда о боге-муравье или некий список заповедей, без которых они бы поубивали сородичей. А потому, что это адаптивное, полезное поведение. У наших ближайших родственников, шимпанзе и бонобо, тоже проявляется альтруизм. Они заботятся о детях, в том числе приёмных, с которыми генетически не очень близки, занимаются взаимным грумингом, вместе защищаются от хищников… А всё потому, что кооперация – это нередко более выгодная стратегия, чем взаимные гадости. Что хорошего в гадостях? Навредил ты, навредили тебе… То ли дело – взаимопомощь, доверие и поддержка. В этом – эволюционное преимущество. Это миф, что эволюция про победу сильнейших. Эволюция – это про выживание наиболее приспособленных. И умение мирно сосуществовать бывает очень эволюционно адаптивным.
Ко всему этому следует добавить, что моральные нормы у людей постоянно меняются. В своё время набожные люди имели рабов. А сейчас заводить рабов не очень прилично. Раньше было нормально быть расистом. А сегодня любая попытка дискриминации по цвету кожи вызывает осуждение в большинстве стран.
И главное наблюдение: сначала менялись моральные нормы общества, а потом уже под них подстраивались религиозные организации. Причём, как показывает современный опыт, со скрипом. Церковь консеравтивна, а не двигатель социального прогресса. То есть не религия привела к положительным социальным переменам, а перемены заставили церковь измениться.
И, конечно, я уж молчу про моральные качества самого предполагаемого христианского бога. Он неоднократно делал всякое-разное: убивал животных и людей, например. И давайте подумаем: почему рождаются младенцы с ужасными врождёнными генетическими заболеваниями? Почему бог это допускает, если он всеблагой, всесильный и всезнающий? Очевидно, что из этого списка надо что-то исключить.
Миф второй – “Отопьёшь немного из чаши знания, разуверишься, изопьёшь её до дна – поверишь”
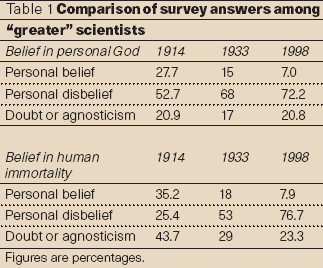
Оппоненты атеистов любят писать (и даже снимать ролики) про то, что величайшие учёные были верующими — мол, наука не против бога. У них есть даже такая сакраментальная фраза: “Отопьёшь немного из чаши знания, разуверишься, изопьёшь её до дна – поверишь”.
Да, многие великие учёные – особенно прошлого – верили в бога. Но в прошлом у исследователей часто не было никакой альтернативы сотворения мира – об эволюции ещё не знали. И подавляющее большинство жителей планеты были верующими.
В 1998 году вышло социологическое исследование “Ведущие учёные всё ещё отрицают Бога”. Это было продолжение опроса, который ранее проводился уже три раза среди учёных в США. Надо пояснить, что США – очень религиозная страна, большинство людей там верующие. Сам же опрос проводили среди учёных – членов Национальной академии наук, это главный научный орган в Америке. Так вот, в 1998 году верили в бога только 7% членов Академии наук США. 72% сказали, что не верят, а 21% выразили сомнения или агностицизм.
А в 2013 году в журнале Evolution Education and Outreach вышел опрос, проведённый в среде британских учёных. Я понимаю, что “британские учёные” – это мем, но, тем не менее, они существуют. И это тоже были не абы кто, а члены Королевского общества – самые топовые учёные в Великобритании. Результаты опроса получились похожими: подавляющее большинство учёных оказались неверующими – этот показатель выше, чем в среднем по стране. Мы видим, что, чем больше человек занимается наукой (а члены подобных академий – это самые продвинутые учёные в мире), тем меньше их убеждают аргументы религии. И ещё один момент: раньше в тех же Штатах верующих учёных было больше, чем сейчас. Наука развивается – и учёные всё меньше верят в бога.
Миф третий – “Атеизм – это тоже религия”
Очень странный тезис, учитывая, что религия предполагает веру в сверхъестественное существо. Атеисты никому не поклоняются, у них нет ритуалов. При желании атеизм можно назвать идеологией. Самое смешное в этом аргументе то, что в нём религия или вера приводится как нечто плохое и постыдное. Будто верующие о чём-то догадываются.
И не зря. Ведь вера – это когнитивная ошибка по определению. Согласно энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона, вера “означает признание чего-либо истинным с такою решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств”. Простите, но позиция атеиста, что у верующих нет нормальных доказательств существования бога - абсолютно железобетонна. Если она ошибочна, то жду этих самых нормальных доказательств.
Миф четвёртый – “Религия не противоречит науке”
Конечно, можно представить себе бога, который не противоречит науке. Он устроил большой взрыв, а дальше всё развивается в соответствии с законами физики… больше он не вмешивается. В принципе даже к такому богу у учёных есть вопросы – подробнее о них можно узнать из лекции космолога Шона Кэрролла “Не бог весть какая теория” (God is not a good theory). Ну да бог с ним.
Прикол в том, что почти никто из верующих не верит в этого абстрактного бога, который никак не вмешивается в своё творение, не отвечает на молитвы, не посылал нам заповеди или сыновей. Большинство верующих верят в конкретного бога конкретной религии. И тут возникает масса проблем.
Например, в Библии описаны истории, которые противоречат нашим знаниям о биологии. Так, там сообщается, что на третий день бог сотворил траву, растения, деревья и землю, а на четвертый – Солнце, Луну и звёзды. Почему растения появились раньше, чем Солнце и Луна? Способность растений к фотосинтезу – результат их эволюции в условиях, когда существовало Солнце. Нет Солнца, незачем изобретать фотосинтез. Если название длительных исторических периодов днями ещё можно списать на метафору, то ошибку в порядке этих периодов – уже точно нет.
С грехопадением тоже проблема. Конечно, болезни существовали задолго до того, как появился первый человек. Более того, на нашу эволюции оказали влияние инфекции и паразиты наших предков. В нашем геноме есть гены вирусного происхождения, а адаптивная иммунная система возникла как ответ на вызов, связанный с наличием в мире инфекций. Наш план строения – результат сосуществования на протяжении миллионов лет наших предков с паразитическими формами жизни.
Идея непорочного зачатия тоже не имеет с наукой ничего общего. Откуда женщине взять Y-хромосому, если мужчина её не оплодотворял? Если бы женщина и родила в результате непорочного зачатия, то точно не мальчика. Хотя даже это звучит не очень правдоподобно. Недавно у меня была дискуссия со священником, который сказал, что бывает же у животных партеногенез. Я согласился допустить маленькую вероятность партеногенеза в истории человечества при условии, что он признает, что вероятность этого на многие порядки меньше, чем то, что кто-то просто выдумал эту историю. Священник ушёл от ответа.
Думаю, поэтому биологи, согласно опросам, не верят в бога чаще, чем учёные других специальностей. Потому что религии требуют поклонения конкретному бога, а биологи понимают, что в Библии описывается бог, который не мог существовать. Да, можно сказать: “Ну, Библия – просто метафора!” Тогда можно предположить, что бог – это тоже метафора. Вместе со всеми моральными учениями и сказками. И когда нам говорят “Не убей”, то имеют в виду “Устрой побоище!” И в Священном писании, к слову, побоища устраивали.
В общем, если Библия – это метафора, то, может, пора отказаться от неё как от источника каких-либо знаний?
В общем, так рассуждаю я. А как рассуждаете вы?
May 29, 2024
Прыжок без парашюта: научная медицина против доказательной
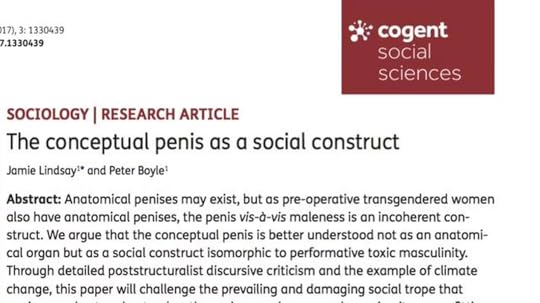
А в 2003 году в журнале British Medical Journal вышла научная работа “Использование парашюта для предотвращения смерти и серьёзных травм, связанных с вызовом гравитации: систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований”. Согласно авторам работы, никаких качественных рандомизированных исследований по эффективности парашютов не проводилось – а значит, нельзя сказать, что парашюты помогают выживанию при падениях. Учёные иронично отметили, что ярые сторонники доказательной медицины критикуют методы лечения, основанные исключительно на наблюдениях – но при этом не выступают против использования парашютов. Хотя выводы о том, что парашюты спасают жизни людей, основаны исключительно на наблюдениях! В конце статьи учёные посоветовали сторонникам докмеда провести двойные слепые рандомизированные исследования парашютов – а также принять в них участие. И не забыть, что некоторые парашюты должны оказаться плацебо.
15 лет спустя, в 2018 году, вышла ещё одна тематическая статья. Она называлась “Использование парашюта для предотвращения смерти и серьёзных травм при прыжке с самолёта: рандомизированное контролируемое исследование”. Авторы новой статьи писали, что всё-таки провели эксперимент с парашютом и выяснили: “Использование парашюта не привело к значительному снижению смертности или серьёзных травм (0% для парашюта против 0% для контроля)”. Правда, был нюанс: участники эксперимента, прыгавшие без парашюта, прыгали из самолёта, который стоял на земле.
В общем, тема сегодняшнего поста – доброжелательная критика доказательной медицины (если что, сам я – сторонник докмеда). И начну вот с чего: на западе некоторые учёные оперируют сразу двумя терминами – доказательная медицина и научная медицина. Эти два термина – способ подискутировать о том, как правильно доказывать эффективность того или иного метода лечения. На что мы должны опираться – только на клинические исследования? Или ещё и на знания в области биологии и других наук? Я не зря начал статью с парашютов – ведь мы в курсе об их эффективности не благодаря опытам, а благодаря своим знаниям о гравитации и так далее. Нам не нужны никакие исследования, чтобы понять: парашюты работают.
Докмед говорит: не важно, как работает то или иное лекарство – главное, что оно работает – и мы видим это в клинических испытаниях. Но такой подход нужен не всегда: так, мы и безо всяких испытаний понимаем, что прыжок с парашютом полезнее прыжка с гирей. И если чьё-то исследование покажет, что гиря лучше спасает от смерти, то очень вероятно, что проблема в исследовании, а не в “недоизученности парашютов”.
Научная медицина же говорит, что клинические испытания – лишь часть доказательной базы: никто не отменял накопленных знаний человечества в области физики, химии и физиологии человека. Если мы поняли и научно объяснили механизм действия препарата – это явный плюс, к нему надо стремиться. А вот если вся информация говорит о том, что перед нами медицинский аналог “вечного двигателя”, что лекарство нарушает все законы физики и химии – надо подумать, стоит ли тратить деньги и время на дальнейшие клинические исследования.
А теперь представьте, что вы изобрели прибор, который проверяет, не взорвалось ли Солнце. Этот прибор очень надёжен – если Солнце взорвётся, то в 99 случаях из 100 он это засечёт. И вот вы просыпаетесь утром, а устройство пишет: ужас, Солнца больше нет! Вас прошибает холодный пот – ведь есть лишь небольшой шанс, что устройство ошибается. К счастью, вы можете просто выглянуть в окно, чтобы убедиться: всё окей, Солнце на месте, взрыва не не было. И вообще, вероятность взрыва звезды такого класса явно меньше, чем вероятность ошибки прибора. Получается, вероятность, что прибор накосячил, условно в миллиарды раз выше вероятности спонтанного взрыва. Карл Саган говорит: “Невероятные заявления требуют невероятных доказательств”. Заявление “Солнце взорвалось” требует гораздо более весомых пруфов, чем заявление типа “Человек прыгнул без парашюта и разбился”.
То же самое и в медицине – одно дело, если работает препарат, чей механизм действия известен и чья эффективность подтверждена в исследованиях на животных и людях. И совсем другое – если речь идёт о якобы эффективности гомеопатии или наложения рук. Невероятные заверения – например, о том, что сахарные шарики помогают при кашле – требуют дополнительных проверок и подтверждений. Если исследование показало, что гомеопатия реально помогает – скорее всего, его авторы допустили ошибку, а исследование нужно провести ещё раз.
Научная медицина – пока что не очень расхожий термин. Это понятие придумали врач-невролог Стивен Новелла и онколог Дэвид Горски. У них даже есть одноименный сайт (Science Based Medicine), где можно подробнее узнать об отличии научной медицины от доказательной. По мнению врачей, у доказательной медицины есть огромное количество преимуществ, но имеются и существенные недостатки. Главный недостаток – это фокус на доказательствах без проверки научной правдоподобности. Самое главное, что имеет значение в докмеде – результаты клинических исследований. Обычно доказательность работает отлично – но она проваливается, когда проверяемое лежит за пределами адекватной науки, когда правдоподобность исходной гипотезы стремится к нулю, когда в медицину лезут шарлатаны вроде упомянутых гомеопатов.
Поэтому Новелла и Горски считают, что надо полагаться не только на экспериментальные данные, но и на всю науку в целом. Так и получилась “научная медицина”. Которая, к слову, тоже не лишена недостатков. Так, иногда случается, что теоретические данные не подтверждаются экспериментально. Например, одно время учёные полагали, что гормон лептин, который борется с ожирением у мышей, решит проблему лишнего веса и у людей. Всё оказалось не так просто: выяснилось, что в человеческом организме, кроме редких случаев генетических заболеваний, и так достаточно лептина. Исследование показало, что этот гормон в похудении большинству из нас не поможет.
Ещё один пример – ионы Скулачёва. Бывший декан моего факультета, замечательный учёный, придумал гениальную идею. У нас в клетках есть митохондрии. Они производят активные формы кислорода, которые повреждают ДНК. Значит, надо доставить антиоксиданты в митохондрии, чтобы эти оксиданты устранять. А как их туда доставить? Скулачёв придумал, что надо найти молекулы, которые одновременно антиоксиданты и при этом положительно заряжены – Скулачёв-ионы. Тогда эти ионы притянутся к отрицательно заряженным митохондриям, и там будут скапливаться антиоксиданты. Это замедлит старение и продлит жизнь. Идея была очень хорошая, элегантная, научно красивая – но на практике она не сработала. То есть наука может говорить, что всё окей, лекарство сработает – но на практике всё окажется совсем не так.
При этом “научная медицина” – не про то, что исследования не нужны. Она про то, что можно отличить правду от заведомой лжи. При этом иногда простой эксперимент может опровергнуть всю теорию – это тоже нормально. Это принцип науки: она всегда готова пересмотреть свою позицию в свете новых данных, опровергнуть свои теории и принять новые. А вдруг неправдоподобное лекарство раз за разом будет показывать хорошие результаты? А вдруг аура существует и работает – и её можно лечить наложением рук? Для этого мы и придумали Премию Гудини – ставили публичные эксперименты по проверке самых невероятных гипотез. Правда, ни один маг и экстрасенс в честном эксперименте так и не смог доказать, что обладает экстраординарными способностями.
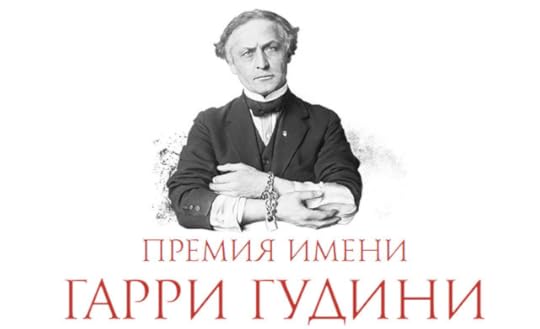
Согласно научной медицине, невероятные заявления требуют более качественных доказательств. Результаты должны много раз повторяться и быть качественными. А ещё их нужно примирить с научной картиной мира прежде, чем начать продавать своё лекарство или курс в социальных сетях. При этом научная медицина годится не только для отбраковки заведомой ерунды. Она может “принести” в науку правдоподобные методики, которые при этом не прошли проверку по “золотому стандарту” клинических исследований.
Так, некоторые вещи чисто практически невозможно проверить в исследованиях “золотого стандарта”. Например, никто не проводил двойных слепых рандомизированных исследований о вреде курения. О нём говорили и до сих пор говорят только эпидемиологические исследования – то есть изучение данных о жизни людей, свободно выбравших курить или нет. И, надо сказать, в своё время этим активно пользовались защитники табака. Вернее, врачи-то и тогда не сомневались, что курение убивает. Но сторонники табака утверждали, что, например, не курение вызывает рак лёгких, а наоборот: курить хочется от першения в горле, вызванного раком. Этот аргумент в уважаемых научных журналах всерьёз приводил один из самых известных специалистов в области статистики, сэр Рональд Фишер – и ему за это, видимо, никто не платил, он правда так думал. Фишер находил и другие возможные объяснения связи между раком и курением: например, что и то, и другое – генетическая предрасположенность.
Позже учёные нашли кучу научных доказательств вреда курения: связь количества сигарет с вероятностью рака, конкретные канцерогены в сигаретах и так далее. Но у нас всё ещё нет никаких надёжных клинических исследований вреда курения по “золотому стандарту”.
Или вот ещё один пример – маски и вакцинация во время пандемии коронавируса. Вот что говорит по этому поводу научная медицина:
SARS-CoV2 передаётся воздушно-капельным путём;
Известно, что при правильном ношении маски снижается количество капель в выдохе;
Мы знаем из опытов на животных, что тяжесть ОРВИ зависит от количества полученных вирусов;
Соответственно, во время пандемии нужно носить защитные маски!
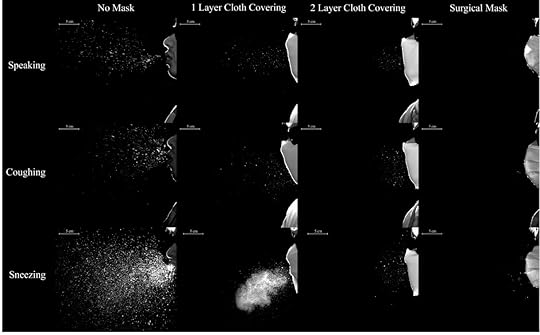
А вот что говорит по той же теме доказательная медицина:
Рандомизированный эксперимент с плацебо с масками поставить нельзя, поэтому однозначного ответа мы, вероятно, не узнаем;
Так и быть, можно сравнить регионы, человеческие популяции разных стран, штатов, социальных групп. Такие, где по-разному носят маски – с учётом разных факторов;
В итоге получаем вывод, что маски снижают распространение вируса, хоть и продолжаем сомневаться.
Как видим, в целом в случае с пандемией доказательной и научной медицинам удалось “договориться”! Правда, формулировки получились разные: в одном случае рекомендация носить маски последовала незамедлительно, в другом – лишь после некоторых исследований и с оговорками. Получается, докмеду потребовалось время, чтобы оповестить население о пользе медицинских масок. А в условиях эпидемии время – это самый ценный ресурс.
А что в ситуации с вакцинами? Тут получился интересный “диалог” между подходами научной и доказательной медицины. Вот что “говорит” научная медицина:
Учёные знают, как работает приобретённый иммунитет. Организм вырабатывает иммунные клетки, которые наиболее точно “узнают” характерные молекулы на поверхности патогена и убивают его;
Мы умеем делать вакцины, которые вызывают этот иммунный ответ – “показывают” организму эти характерные молекулы. Эти вакцины могут иногда вызвать недомогание, но гораздо меньшее, чем сама болезнь;
Получается, привиться и получить антитела против вируса до того, как им заразился, выгоднее, чем переболеть. Так что, скорее всего, лучше вакцинироваться, чем нет.
Да, некоторые вакцины оказываются неэффективными. Поэтому нужно провести исследование на большой группе людей – часть привить, часть – нет. И посмотреть, какие побочки есть у вакцины, как будет протекать болезнь, как часто привитые и непривитые будут заражаться. То есть на помощь научной медицине всё-таки приходит медицина доказательная – без клинических испытаний выяснить эффективность вакцин не получилось бы. И опять мы видим разницу в скорости реагирования.
Хорошо, допустим, что общими усилиями мы выяснили, что большинство вакцин от коронавируса снижают и вероятность заразиться, и тяжесть болезни. А вот снижают ли они заразность привитого? Тут научная и доказательная медицины дают разные ответы. С точки зрения научной медицины, если вакцина защищает от заражения, да ещё и снижает дозу вируса в выдохе, значит, сильно заразных людей точно будет меньше. А значит, и эпидемия замедлится. А вот с точки зрения докмеда, нет доказательств того, что вся эта логическая цепочка работает для привитых популяций.
Конечно, можно рассуждать как Фишер и придумать причину, по которой вышеописанная логика ошибочна. Можно сказать, что привитые, защищённые от заразы и от тяжёлых симптомов, станут более беспечны, побегут тусоваться. А значит, вакцина даже поможет распространению эпидемии. Но, может, в данном случае бремя доказательства уже лежит не на создателях вакцин?
Так или иначе, эту конкретную гипотезу учёные проверили! Например, они исследовали семьи, где один человек заразился ковидом. Выяснилось, что заражённые привитые стабильно менее заразны, чем заражённые непривитые. А те, кто заразился дома от непривитого, имели в несколько раз большую вирусную нагрузку, чем заражённые от привитых.
Что мы имеем в сухом остатке? Докмед и научная медицина часто дополняют друг друга и в конце сходятся. Но знать различие между ними очень полезно, чтобы анализировать споры, особенно самые горячие и бесконечные – тогда видно, какая иерархия доказательств у спорщиков. Одним важнее вся совокупность научных знаний, а клинические исследования для них – лишь часть большого целостного пазла, куда эти результаты должны вписаться. Для других важнее какая-то одна окончательная проверка, которая всё должна расставить на свои места – невзирая на предположения или ожидания.
А теперь давайте посмотрим, кто и почему возражает против идеи научной медицины. А ещё – почему она является важным оружием борьбы против антинаучности. Итак, мы знаем, что доказательная медицина – это однозначный “апгрейд” обычной медицины, который принёс огромное количество пользы. История показала, что интуиция и личный опыт врачей и пациентов – это очень плохой и ненадёжный способ понять, какое лечение работает, а какое нет (привет, кровопускание). Нужно проверять лечение в ходе экспериментов, исключив любые предубеждения благодаря ослеплению, контролю, рандомизации и так далее. Нужна доказательность: поэтому в современном мире evidence-based medicine и является золотым стандартом и доминирующим подходом.
Но есть место, где докмед сталкивается с проблемами – это альтернативная медицина. Как опасный вирус приспособился обходить иммунную систему, так и шарлатаны научились обходить некоторые системы защиты науки: они наловчились пользоваться приёмами докмеда, чтобы обосновать свою “правоту”. А порой мракобесы и вовсе используют докмед, чтобы заткнуть своих критиков, которые отсылают к фундаментальной науке и приводят общепризнанную, проверенную информацию. Адепты антинауки находят исследования, подтверждающие их гипотезу, и говорят: “Вы хотели, чтобы исследование было царицей доказательств? Вы отвергали любые аргументы, кроме результатов исследований? Вот вам результаты: признайте нашу правоту”. А на возражения отвечают: “Вообще-то никто не доказал в исследованиях, что мы неправы. Проведите дорогостоящий клинический эксперимент по опровержению – а потом поговорим”. Тут надо отметить, что опровержение даже самых мусорных и низкокачественных исследований – это часто большой труд, которым мало кто любит заниматься. Вот и получается, что формально правила науку соблюдены, а на деле за качественную работу выдаётся имитация познавательной деятельности.
Наверняка вы слышали про оциллококцинум – это такой популярный гомеопатический препарат. Это экстракт печени утки, разведённый в 10 в двухсотой степени раз (дружеское напоминание, что во Вселенной порядка 10 в восьмидесятой степени атомов). Команда авторов решила провести метаанализ исследований этого препарата – и пришла к очень туманным выводам. С одной стороны, специалисты считают, что “недостаточно убедительных доказательств, чтобы сделать надёжные выводы” о пользе оциллококцинума против гриппа. При этом авторы “не исключают возможности” того, что оциллококцинум может как-то действовать.И просят “больше исследований”.
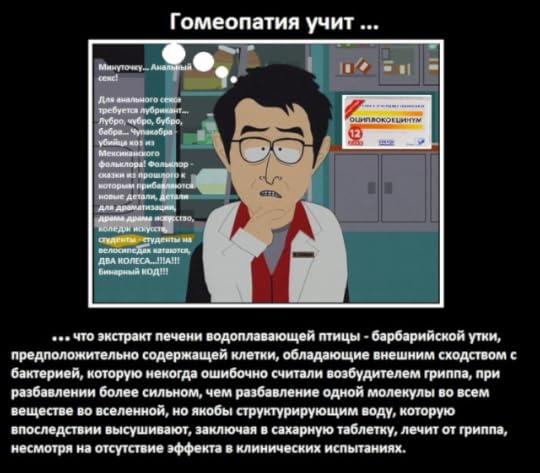
А вот что говорит об этом препарате научная медицина:
Оциллококцинум не содержит ни одной молекулы действующего вещества, поэтому едва ли может быть эффективным;
При этом мы видим, что клинические исследования препарата либо плохие, либо не показывают его эффективность (либо всё вместе);
Значит, дальше испытывать оцикллококцинум на людях неэтично и бессмысленно. Лечение этим препаратом не может быть рекомендовано никому.
Теперь понимаете, почему шарлатаны больше любят докмед, чем научную медицину? Ведь сторонники докмеда обязаны исследовать и биорезонанс, и гомеопатию, и иглоукалывание, и новую германскую медицину. Нельзя просто взять и сказать: “Ну, пиявками рак не вылечить!” А ещё можно провести исследование низкого качества и заявить: “О, пиявки лечат онкологию! Теперь никакая химиотерапия не нужна”. Правда, потом могут прийти нормальные учёные, повторить эксперимент и выяснить, что ничего пиявки не лечат. Но на это уйдут время, силы и деньги. А пока этого не произойдет, получается, людей будут лечить какой-то фигней.
В общем, докмед, как ни парадоксально, открывает двери тем же гомеопатам, которые провели ряд сомнительных исследований, доказывающих пользу их продукции. Да, качество этих исследований часто просто ужасное – там есть и подтасовки, и мизерная выборка, и много чего ещё, что можно опровергнуть. Но на опровержение уходят время и деньги. И пока нормальные учёные возятся с проверкой “гомеопатических” результатов, альтернативщики улыбаются, дают интервью, всячески пиарят свои шарики и неплохо зарабатывают. В итоге мы имеем дело с псевдодоказательной медициной. Она придаёт внешнюю легитимность странным идеям – например, лечению рака содой.
Эта идея коснулась даже ВОЗ, которую недавно обвинили в заигрывании с народной медициной и всякой альтернативщиной. Это произошло после публикации документа “Ориентиры ВОЗ для обучения антропософской медицине”. В антропософской медицине рак лечат омелой, отрицают существование микробов, проверяют прошлые жизни пациентов и считают, что сердце не качает кровь. Отец этого движения – ясновидящий и оккультист Рудольф Штейнер.
Зачем ВОЗ опубликовала свои “ориентиры”? Специалисты организации заявили, что, во-первых, надо всё проверить и не отмахиваться от возможных полезных терапий. Во-вторых, всё равно куча людей пользуется альтернативной медициной – лучше уж не пускать дело на самотёк. К слову, ВОЗ не называет альтернативную медицину тем, чем она является – то есть чушью. И, по сути, говорит о ней с точки зрения… доказательной медицины.
Вы можете спросить: “А в чём тут проблема? Давайте изучать всё – и гомеопатию, и родологию! Чем больше клинических исследований – тем лучше”. Но вы не представляете, сколько денег и времени мы тратим, отвлекая учёных на проверку очень низкокачественных и слабых идей. Вот есть классная клиника со специалистами с мировыми именами. И чем они занимаются? Проверяют в рандомизированных качественных исследованиях эффективность сахара или ароматерапии. Не ищут лекарство от деменции, а изучают остеопатию. Поэтому Новелла и Горски говорят: хватит исследовать терапию втыкания острой палки в глаз, это безумие! Перестаньте тратить деньги налогоплательщиков на эту фигню! Есть серьёзные исследования, которым нужны финансирование и время.
Один противник научной медицины однажды сказал: “В своё время научная медицина отстаивала бы кровопускание – ведь у него был признанный тогдашней наукой подход и механизм действия”. Но на самом деле кровопускание всегда было псевдонаукой. Просто, когда его практиковали, научный метод и доказательность ещё не были сформулированы. Кроме того, научная медицина – не противница медицины доказательной. Это скорее её “апгрейд”.
Научная медицина и докмед не соревнуются друг с другом. Первая помогает второй – и прежде всего в двух случаях: когда строгое рандомизированное исследование провести или нельзя – как в случае с курением, или невозможно. И когда шарлатаны злоупотребляют докмедом, чтобы продать свои шарики и прочую ерунду, тем самым отвлекая учёных от по-настоящему серьёзных вещей вроде борьбы со старением.
Закончить статью я хочу уже упомянутой цитатой Карла Сагана: “Невероятные заявления требуют невероятных доказательств”. Думаю, эту цитату нужно писать везде – в том числе в учебниках по медицине. Может, тогда у ВОЗ и других серьёзных организаций будет меньше соблазна рекламировать странные вещи, основанные на очень и очень сомнительных пруфах.
Источники: https://docs.google.com/document/d/15fGf5bKJx_9znyMABk8WxZii9wtE0K-TdtpxTI-aeYg/edit
Александр Панчин's Blog
- Александр Панчин's profile
- 50 followers



