Max Nemtsov's Blog, page 214
December 17, 2017
bad day yesterday

вчера сказали, что умер Боря Суранов – сыктывкарский журналист, наш старый друг, подписчик и корреспондент. он был частью той, еще аналоговой матрицы, которая в конце советского союза связывала всех нас почище интернета (потому что была реальна, в отличие от нынешней цифровой иллюзии) и, конечно, имела какое-то отношение к рок-н-роллу, но им не ограничивалась. Боря делал в Сыктывкаре журнал “Кукиш”, и переписывались мы с ним и обменивались изданиями с конца 80-х, а потом понемногу начали встречаться на разных фестивалях, где знакомства и возлияния, как правило, предварялись диалогами, вроде:
– привет, а ты откуда?
– из Владивостока.
– ничего себе.
– а ты откуда?
– из Сыктывкара.
– ничего себе.
он, наверное, для нас, журнала =ДВР=, был самым северным корреспондентом, а сеть была раскинута от Камчатки (Игорь Мальцев), до Закарпатья (Алик “Товарищ М” Гнатив и Юра Косик), и от Сыктывкара до Ташкента (Лена Клепикова). все эти связи так или иначе сохранились до сих пор, но вот теперь в картине нашего мира образовалась дырка.

на этом снимке из Барнаула их уже две, если не ошибаюсь: нет Миши Шишкова (Питер; второй слева во втором ряду, с неоднозначным лицом), а Боря выглядывает в нем же справа из-за головы Игоря Ваганова (Ростов-на-Дону)
плакать уже как-то нет сил, поэтому пусть вот это станет для Бори уместным прощанием. я думаю, он оценит:
Filed under: =DVR= archives








December 16, 2017
the soup should be revolting

девачки из какого-то проэкта РБК (“розовый”?) сказали свое веское слово о литературе (это в продолжение рубрики “так и рождаются герои”) – о романе “Картина мира”:
«Мир Кристины» — картина для российского читателя знаковая еще и потому, что именно она украшала обложку одного из самых популярных изданий романа Джерома Дэвида Сэлинджера «Над пропастью во ржи». Болезнь действительно сделала так, что Кристина Олсон зависла над пропастью.
ну и чем, спрашивается они лучше читателей “лайвлиба”? и чему мы удивляемся? вот о “Музыке горячей воды” Хэнка:
Сборник достаточно средненький. А может дело в том, что я хотела именно связного повествования, но поняла это уже потом.
62-я серия подкаста “Пинчон на людях”: они приближаются к концу “Радуги тяготения”
а тут занимательное: альтернативная обложка на книгу про “Контру”:

Filed under: pyncholalia, talking animals








December 15, 2017
some long-distance ducks
в “Голосе Омара” сегодня – воспоминания об “Осмотре склепов” Эрика Маккормака (жаль все-таки, что мы не успели ее сделать в свое время)

говорят, “Американха” приехала
наконец мы дождались дождя (с) – не то чтоб мы его ждали, конечно: “Пионэр” показывает “Внутренний порок” на экране

миг прекрасного: альтернативная обложка на “Страну коров” Пирсона (если кто не понял – это руккола, зелененькая)
ну и немного лиц друзей в один из минувших дней (говорю как человек, поучаствовавший в издании):
по этому поводу у нас сегодня объявляется день Ника Рок-н-Ролла:
Filed under: pyncholalia, talking animals








December 14, 2017
Joyce Carol Oates 2
вот еще один вполне забытый праздничный рассказ ДжКО
Джойс Кэрол Оутс
Наваждение
Там ничего нет! Ты ничего не слышишь. Просто ветер. Тебе приснилось. Сама знаешь, какие сны тебе снятся. Засыпай. Я хочу тебя любить, хватит плакать, не цепляйся за меня, дай и мне поспать бога ради я тоже человек а не только твоя Мама не то я тебя возненавижу.
* * *
На новом месте, куда нас привезла Мама. Где нас никто не знает, Мама говорит.
На новом месте, где по ночам нас будит плач кроликов. По ночам мою кровать придвигают к стене, и через стену я слышу, как в погребе плачут кролики в клетках — просят, чтобы их выпустили. По ночам дует ветер. На новом месте на самом краю реки, у которой, Мама говорит, индейское имя — Кай-я-хога. По ночам, когда мы слышим Мамин голос, ее глухой смех. Мамин голос, будто в телефонной трубке. Мамин голос, будто она говорит, будто сама себе смеется. Или поет.
Калвин говорит, что это, может, вовсе и не Мамин голос. А вовсе даже голос призрака, голос того дома, куда нас привезла Мама, раз она теперь вдова.
Я спрашиваю Калвина, может, это Папа говорит? Может, это Папа вернуться хочет?
Калвин смотрит на меня так, будто сейчас стукнет. За то, что я говорю что-то не то, что-то тупое, как обычно. А потом смеется.
— Никуда Папа не вернется, тупица ты. Папа покойник.
Папа покойник. Покойник Папа. Папа-покойник.
Папапокопоко. Покопапакойник.
Если говорить это много раз, быстрее и быстрее, становится смешно. Калвин показывает мне, как.
* * *
На новом месте за тыщу миль, говорит Мама, от старого места, мы приехали сюда, чтобы начать все заново. У Мамы уже есть работа — в торговле, говорит она. Не шибко, но это временно. Иногда по ночам ей приходится работать, а Калвин за мной присматривает. Калвину десять: уже взрослый, чтобы смотреть за своей младшей сестренкой, говорит Мама. Теперь, когда Папы нет.
Теперь, когда Папы нет, мы никогда о нем не говорим. Мы с Калвином — никогда, чтобы Мама не услышала.
Я сначала волновалась: как же Папа узнает, куда мы переехали, если захочет к нам вернуться?
А Калвин замахал кулаками, как мельница, будто сейчас меня стукнет. Говорил тебе, говорил тебе, говорил тебе сколько раз: Папа ПО-КОЙ-НИК.
Мама сказала:
— Рэнди Малверн отправился туда, куда сам хотел. К своим злым родичам. — Я спросила, где это, и Мама презрительно ответила: — В Ад он отправился. К своим злым родичам.
* * *
Кроме кроликов в погребе, меня тут никто не знает.
В своих жутких старых ржавых клетках в погребе, куда нам ходить нельзя, говорит Мама. В погребе ничего нет, Мама говорит. Держитесь от этого мерзкого места подальше. Но по ночам из-за стены я слышу, как кролики плачут. Сначала похныкивают, то есть, как будто голуби курлычут и суетятся, а потом громче. Если даже подушку на голову положить, все равно слышно. Я должна их слышать. А сердце так сильно колотится, что даже больно. В своих клетках кролики плачут: Помоги нам! Выпусти нас! Мы не хотим умирать.
Утром перед школой Мама расчесывает мне волосы, смеется и чмокает меня в самый кончик носа. По утрам у меня есть Мама, которая опять меня любит. Но если я спрашиваю у Мамы про кроликов в клетках в погребе, лицо у нее меняется.
Мама говорит, что она же мне говорила! Погреб пустой. Никаких кроликов в погребе нет, она ведь мне уже показывала, разве нет?
Я пытаюсь сказать Маме, что кролики есть — настоящие кролики, я же слышу их из-за стены по ночам, — а Маму раздражает расчесывать мне волосы, у меня все кучеряшки вечно перепутаны, особенно на затылке, и Маме надо брать железную щетку, от которой больно, и я хнычу, а Мама говорит:
— Нет. Это все твои глупые сны, Сеси. В последний раз тебя предупреждаю: никаких больше снов.
* * *
Теперь, когда Папы нет, мы учимся не попадаться Маме.
Раньше всегда мы высматривали Папу. Папа едет домой, вон его мотор грузовичка жужжит. Хлопает дверца. И Папа может грубовато подбросить тебя к потолку сильными руками, но это ничего, потому что Папа смеялся и щекотался усами, и покупал нам подарки, и возил с собой гулять в своем грузовичке, мы ездили быстро и виляли туда-сюда, и компакты свои включал так громко, что музыка грохотала и билась в нас, будто мы тряпичные куклы. Но в другие разы Папа не приезжал по много дней, а когда возвращался, Мама пыталась нас от него загородить, а он хватал ее за волосы и говорил: Чего? Ты, блядь, чего на меня так смотришь, а? Эти дети, блядь, — мои. И он спотыкался о стул, и ругался, и пинал его, а если Мама хотела поставить стул на место, он ее толкал. И если звонил телефон, он выдергивал его из розетки. Глаза у Папы были стеклянные, и в них такая как бы красная паутина, а пальцы у него сжимались в кулаки, и кулаки эти постоянно что-нибудь били, как будто он никак не мог удержаться. Особенно Калвина. Бедный Калвин — если Папа видел, как он сжимается или пытается спрятаться. Говнюк маленький! орал Папа. Ты, блядь, чего удумал, ты чего против Па-пы своего имеешь, а? И Мама тогда бежала нас защищать. И прятала нас.
А теперь, когда Папы нет, на нас прыгают Мамины глаза — как у кошки. И пальцы у нее дергаются, будто хотят стать кулаками.
Я хочу любить тебя, маленькая. И тебя, твоего братика. Но из-за вас это так трудно…
Дом у нас — террасный, его так Мама называет. В самом конце квартала других террасных домов. Дома кирпичные, но вблизи видно, что это такая асфальтовая отделка, он только похожа на кирпич. Красный кирпич, и по нему бегут такие полоски — будто слезы.
Вот в таком городе мы сейчас живем — это большой город, и очень далеко от того места, где мы жили раньше. Мама говорит, что нас тут никто не найдет, никто сюда за нами не приедет, никто нас тут не знает.
Мама говорит, чтобы мы не разговаривали с соседями. Никогда.
Мама говорит, чтобы мы ни с кем не разговаривали в школе. Только о том, о чем нужно разговаривать. Понятно, дети?
Мама нам улыбается. Глаза у Мамы сияют, так она счастлива.
* * *
Маме ничего так и не смогли предъявить.
Мама говорит: А знаете почему? Потому что нечего было предъявлять.
* * *
Когда Папа уехал в последний раз на своем грузовичке, мы смотрели в окно. Мы видели красные огоньки — они быстро уезжали в темноту. Нам уже давно следовало спать, но мы не спали — нам мешали голоса снизу, из-под половиц.
А потом Мама выскочила наружу, ее там ждала машина. Кто за ней заехал — это мы не знали. Они уехали, а потом я думала, что это все мне, наверное, приснилось, потому что Мама говорила, что из дому она никуда не выходила, и откуда тебе знать, что по-настоящему, а что приснилось? Когда спросили меня, я только покачала головой, я вся зажмурилась, ничегонезнаю. Калвин им сказал, что Мама была всю ночь с нами. Мама с нами спала и обнимала нас.
Мне тогда было всего пять. Я плакала и плакала. Теперь мне уже шесть, и я хожу в первый класс. А Калвин в четвертом. Калвину пришлось остаться на второй год — из-за необучаемости. А ему вообще все равно, говорит Калвин, зато теперь к нему не докапываются. Он теперь большой пацан, пускай кто-нибудь только попробует к нему докопаться.
Кто бы к нам ни приходил расспрашивать брата — тетенька из социального обеспечения, которая нам всегда приносила овсяное печенье, которое сама испекла, или шериф, который звал нас по именам, как будто мы с ним хорошо знакомы, — Калвин твердил одно и то же.
Мама обнимала нас всю ночь, до самого утра.
* * *
Погреб. Туда нам с Калвином запрещено.
Мама говорит, там ничего нет. Никаких кроликов! Ради бога, хватит уже, оба! В этом доме никаких кроликов не было и нет.
Хотя клетки до сих пор в погребе. А несколько — и снаружи, на заднем дворе, почти полностью заросли сорняками, но в погребе их больше, и Калвин говорит, это ловушки для кроликов. Мама уже звонила насчет клеток в погребе, и запаха в погребе, и стен в погребе, из которых сочится черная жижа, когда идет дождь, и насчет крыши звонила, которая протекает, и Мама начинает плакать в трубку, но этот дядька пока не приехал.
Погреб! Вот бы о нем так сильно не думать. По ночам, когда кролики зовут на помощь, плачут они потому, что сидят в клетках в этом погребе, в ловушках.
Выпусти нас! Мы не хотим умирать.
В другом нашем доме, построенном на бетонном блоке, погреба не было. А потом Папа переехал жить в дом на колесах, как он его называл, и там под низом были одни колеса, больше ничего. А здесь погреб — как большая квадратная яма в земле. Когда Мама в первый раз ушла, и мы остались дома одни, мы в этот погреб спустились — было страшно и смешно. Калвин зажег свет: нам над головой висела только одна лампочка. Ступеньки были деревянные, шатались. Внизу стояла печь, и пахло нефтью, и еще трубы. А в углу составлены ловушки для кроликов, как их Калвин назвал. Жуткие клетки из ржавой проволоки стояли друг на друге почти до самого потолка. Мы насчитали восемь. В погребе плохо пахло, особенно клетки воняли. За проволоку цеплялись клочки мягкого серого меха. А на бетонном полу валялись кроличьи какашки, так сказал Калвин, — маленькие черные катышки. И масляные черные пятна на бетоне — Калвин дразнил меня и говорил, что это кровь.
Там внизу пахло какой-то старой плесенью. И после сильного дождя из стен сочится черная жижа. Калвин сказал, что Мама нас убьет, если узнает, что мы туда спускались. Он меня ругал, когда я полезла рукой в одну клетку, где дверца открытая:
— Эй, если ты поцарапаешься и у тебя начнется столбик, Мама мне такое устроит.
Я спросила, что такое столбик.
А Калвин презрительно так, мол, самый умный, потому что он уже в четвертом классе, а я только в первом, сказал:
— Смерть.
Я боялась, что Калвин увидит: я же поцарапалась рукой об эту дверцу. Сама не знаю, как, — так получилось, и все. Неглубоко, будто кошка царапнула, кровь немного выступила, и жечь начало. А Маме я скажу, что поцарапалась об острый угол ящика.
И вот тогда я увидела, как в самой дальней клетке в углу что-то шевелится. Вроде тень такая мохнатая. И глазки блестят — близко-близко друг от друга. Я ойкнула и за Калвина схватилась, а он мою руку стряхнул.
И так фыркнул презрительно — у Папы научился. Когда Папа из себя такое слово вытягивал, будто ему нравится:
— Хер-ня.
Я Калвину сказала, что там почти можно увидеть кролика. И других кроликов в других клетках тоже. Почти.
А Калвин обозвал меня глупой тупицей. И дернул за руку, чтобы я с ним пошла, обратно наверх.
Меня он часто и похуже обзывает. Так гадко, чтобы я заплакала. Я не знаю, что значат такие слова, только они и должны быть гадкими — вроде тех слов, которыми Папа обзывал Маму в последние дни, когда жил с нами.
И теперь он говорит:
— Если она узнает, что мы тут были, я тебе жопу надеру. Все, что она со мной сделает, я сделаю с тобой, пизда.
* * *
Хотя это Калвин не нарочно. Калвин меня любит. В школе, где мы никого не знаем, Калвин всегда со мной ходит. Вот только слова у него изо рта вылетают, словно кусучие осы. Совсем как у Папы, совсем как с Папиными кулаками.
От них не нарочно больно. Просто так получается, и все.
* * *
Теперь, когда Папы нет, нам так странно, что Мама ставит его музыку.
Она ведь всегда на Папину музыку ворчала. На его компакты. В основном хеви-метал, как его Калвин называет. Как будто кто-то пинает пинает пинает дверь. Низко так и гадко, будто гром.
Теперь Папы нет, и Мама покупает бутылки, совсем как Папа домой приносил. На одной — такой гадкий и злой дикий кабан нарисован, и Калвин говорит, что это гигантская свинья, которая живет в болоте — все знают, что она сожрала одну маленькую девочку, а та была живая и брыкалась.
Теперь Папы нет, и Мама берет его гитару, и трогает струны, и пытается подобрать аккорды. Старая Папина гитара — к ней он много лет не прикасался и вообще оставил, когда уехал. Одна струна лопнула, но Маме все равно. Мама делается громкая и счастливая, и поет: на берегах О-гай-о и вон стоит малютка Мэг-ги, держит чемодан в руке. Мама иногда садится по ночам на кухне, гитару кладет на колени и головой так водит, чтобы ее длинные волосы, цвета как свекла, падали до самой поясницы. И даже там, где она слов не знает, Мама все равно поет. Вон стоит малютка Мэг-ги, держит чемодан в руке, малютка Мэг-ги рождена любить и водить мужчин на поводке! Калвин говорит, что Мама играет на этой банке говеннее некуда, но Мама сейчас такая хорошенькая, и лицо у нее уже почти зажило, а волосы отросли, поэтому никто и не заметит.
* * *
В школе мне так хочется спать, что глаза сами закрываются. Голова падает прямо на руки, на парту, и женщина спрашивает что-то не то. Я сразу не понимаю, кто это, а потом вижу – это моя учительница надо мной склонилась.
Я не помню, как ее зовут. Она пахнет ластиками — совсем не как Мама, от которой пахнет так сладко и остро, когда она уходит из дома.
— Сеси? Ты можешь все мне рассказать, милочка. По секрету. Если…
Я зажмуриваюсь крепко-крепко. Глаза жжет, будто в них попал дым от костра. Я замираю, как перепуганный кролик.
— …дома что-то не так. Каждое утро у тебя…
Учительница замолкает, облизывает губы. Сама не знает, что сказать. Когда Папа уехал, и нам сказали, что он больше никогда не вернется, у людей по глазам можно было понять: они просто не знают, какие слова говорить. Они не могли заставить себя вымолвить: Ваша папа умер. И даже как Калвин, сказать не могли: Папа покойник. Покойник Папа. Учительница не может заставить себя сказать: Каждое утро у тебя вид затравленный, — такие слова не говорят маленькой девочке, чей отец отправился в Ад к своим злым родичам.
— …глаза ввалились, милочка. Ты не высыпаешься по ночам?
Я качаю головой — совсем как Калвин. Из глаз у меня брызжут слезы. Но я не плачу, нет. Пока никто не увидел, я вытираю лицо обеими ладошками.
В школьном лазарете медсестра снимает с меня туфельки и укрывает меня одеялом, чтобы я немножко поспала. А я вся дрожу, и у меня зубы стучат — так я замерзла. Я держусь изо всех сил, чтобы не уснуть, но в погребе как будто гасят лампочку, и все сразу темное и пустое, точно там никого нет. А через некоторое время в лазарет приходит кто-то. Я слышу их голоса сквозь марлевую занавеску, которую задернули вокруг моей кроватки. Олин голос говорит:
— Не место тут ей спать. Не в школе же. Она уроки пропускает.
А другой голос — медсестры. Говорит тихо-тихо, будто это тайна:
— Это девочка Малверн. Сами знаете…
— Так это она! У нее же отец…
— Ну да. Я проверила фамилию.
— Малверн. Разумеется. Мальчик Калвин в четвертом классе. Тоже беспокойный и рассеянный.
— Думаете, они знают? Как погиб их отец?
— Господи, надеюсь, что нет.
* * *
Про Маму всякие гадости говорили. Вроде как ее арестовали помощники шерифа. Неправда это — никто Маму не арестовывал. Калвин наскакивал на тех, кто так говорил и дразнился, колотил и пинал их. Маму просто увезли на допрос. А потом отпустили — никто ее не арестовывал. Потому что против нее не было ни клочка улик.
Пока Мамы не было — день, ночь и еще полдня, — мы жили у Тети Эстелль. Это Мамина старшая сестра. Сводная, как про нее говорила Мама и чуточку кривилась. В школу нам ходить не надо было. И с другими детьми нам играть не велели. И вообще из дому выходить. Мы смотрели видик, а не телевизор, а телик включали, только когда мы уже спать ложились. В том доме про Папу вообще не говорили. И фамилию «Малверн» никто не произносил. Потому мы узнали, что были похороны, а нас с Калвином туда не повезли. Тетя Эстелль курила сигареты и много разговаривала по телефону, а нам говорила, что мама скоро вернется, и мы все скоро поедем домой. Так и случилось.
Когда мы уезжали я крепко-крепко обняла Тетю Эстелль. Только потом Мама и Тетя Эстелль поссорились, и когда Мама повезла нас за тыщу миль в грузовичке, а к нему еще прицепила трейлер «Сам-Вози», Тете Эстелль она даже до свиданья не сказал. Сука, так Мама про нее сказала.
* * *
Когда Мама вернулась домой с этих допросов, как она их называла, все лицо у нее было бледное и распухшее, и в нем были такие тоненькие трещинки, как в гипсе, если его сначала разбить, а потом склеить. Не очень хорошо получится, но все равно же склеится. И трещинок почти не видно.
В конце концов мы и перестали их видеть. Мама отрастила себе длинные волосы, и они все мерцали и играли у нее на плечах. Мама так умела их расчесывать — забрасывала наверх, чтобы на глаза не падали, будто человек плыл-плыл и утонул, а потом вдруг опять наверх вырвался. Ах-ах-ах — вот так Мама дышала.
Помадным карандашиком Мама нарисовала такую соблазнительную вишенку у себя на губах — они были бледные и все время дергались. А потом нарисовала глаза в черных кругах — таких мы раньше никогда у нее не видели.
Мама бренькала на гитаре. Теперь это ее гитара, она даже струну починила.
— Он сам этого хотел, — говорила Мама. — Когда один из них к ним приезжает, весь Ад радуется.
* * *
К Рождеству на новом месте Мама бросила работать в обувной уцененке и теперь работает в кафе на реке. По вечерам разносит коктейли, а иногда играет на гитаре и поет. Лицо у нее все яркое и накрашенное, а волосы так блестят, что трещинок на коже совсем не заметно: в кафе свет дымный, они там невидимые. Пальцы у Мамы стали увереннее. Ногти стали короткие и лакированные. И голос у нее низкий и хрипловатый, от него просто мороз по коже бывает. В кафе мужчины предлагают ей деньги, и она иногда их принимает. Тихо говорит: Спасибо. Я возьму их как дар моей музыке. Я возьму их, потому что у моих детей нет отца, я мать-одиночка и должна вырастить двоих маленьких детей. Но приму я их, только если вы не ожидаете от меня еще чего-то — только моей музыки и моей благодарности.
На Краю Реки Мама зовет себя Малюткой Мэгги. Со временем ее все узнают, как Малютку Мэгги, и будут ею восхищаться. Когда она рассказывает нам, как ей хлопали, она совсем как маленькая девочка. Малютка Мэгги берет гитару, а она теперь вся отполированная и блестит, словно гладкое нутро каштана, когда с него шипастую шкурку сдерешь. Мама берет аккорды, и длинные свекольные волосы рассыпаются у нее по плечам. Мама говорит, что когда она начинает петь, в кафе все замолкают.
* * *
Зимой кролики плачут еще жалостливее, они просто умоляют. Калвин их тоже слышит, только притворяется, что нет. Я накрываю голову подушкой, прижимаю ее — я не могу их слышать. Мы не хотим умирать. Мы не хотим умирать. Однажды ночью, когда Мама в кафе, я слезаю с кровати и босиком иду погреб, где воняет сочащейся жижей, гнилью и страданием зверьков. И там, в тусклом свете единственной лампочки — кролики.
В каждое клетке — кролики! Некоторые уже так выросли, что еле втиснуты в них, их попы вжимаются в проволоку, а мягкие длинные уши расплющены о спины и головы. И глаза у них сверкают — они ждали меня и надеялись. И мне становится так тошно — в каждую клетку попался кролик. Хотя это очень логично, я сама потом пойму в жизни. В каждой клетке — по пленнику. Потому что иначе зачем еще взрослым, которые владеют всем миром, делать эти клетки? Ведь ими нужно как-то пользоваться, правда? Я спрашиваю кроликов: кто вас сюда запер? Но кролики умеют только смотреть на меня, моргать и дергать носами. Один — такой красивый, бледно-пороховой, совсем молодой и не больной, не сломленный, как остальные. Я глажу его по голове через проволочную сетку. И он у меня под пальцами вздрагивает — я даже чувствую, как у него сердчишко бьется. Другие — какие-то шелудивые, вся шерстка у них свалялась, она тусклая и серая. Там есть один черный, тяжелый, клетка его уже изуродовала. У него слезятся глаза. Все дверцы — на запорах, и на них — маленькие висячие замки. И клетки, и замки давно заржавели. Я шарю в погребе и нахожу старые садовые ножницы, неуклюже беру их обеими руками и вырезаю сетки из всех клеток с одной стороны. Разгибая проволоку, чтобы кролики выпрыгнули, я режу себе пальцы. А кролики не верят мне, сомневаются. Только самый молодой высовывает в дырку голову, моргает и нервно принюхивается, но с места не движется.
Потом я замечаю, что из погреба наружу есть дверь. Тяжелая, деревянная, вся затянута паутиной, в которой запутались сухие трупики насекомых. Ее не открывали много лет, но у меня как-то получается сдвинуть ее — сперва на несколько дюймов, потом чуть пошире. За нею наверх ведут бетонные ступеньки. Меня по лицу гладит свежий холодный воздух, пахнет снегом.
— Идите! Идите отсюда! Вы свободны!
Кролики не шевелятся. Нужно подняться наверх и оставить их в темноте, только тогда они убегут из своих клеток.
* * *
— Сеси? Просыпайся.
Меня трясет Мама — так крепко я сплю.
Уже утро. Кролики больше не плачут. Где-то близко, за нашим задним двором, пробегает поезд Каяхога-Эри — колеса у него такие шумные, что даже свистка уже почти не слышно. Я лежу в кровати, а кровать придвинута к стене.
Когда я спускают в погреб на разведку, клеток там больше нет.
Нет больше кроличьих клеток! Хотя еще видно, где они стояли — там пустое место. Бетонный пол там не такой грязный, как во всем погребе.
Дверь наружу заперта накрепко. Заперта и вся в паутине, как раньше.
Во дворе — там, где в зарослях сорняков валялись другие клетки, — тоже больше ничего нет. Увезли. Только следы на снегу.
И Калвин на них смотрит. Только ничего не говорит.
Говорит Мама — она чиркает спичкой, совсем как это делал Папа, о ноготь большого пальца, подносит ее к сигарете, что свисает у нее изо рта:
— Уволок он, наконец, эти чертовы вонючие клетки. Всего пять месяцев — и этот мудак соизволил задницу с места сдвинуть.
* * *
Сгорел заживо — вот какие слова говорили незнакомые люди, только мы не должны были их слышать. Заживо сгорел в собственной постели, говорили про нашего отца по телевизору и везде, только нас от этих слов прятали.
Пока их не услышал Калвин. А Калвин повторил их мне.
Сгорел заживо пьяный, в собственной постели. Трейлер облили бензином и бросили спичку. Но у Рэнди Малверна имелись враги — за свою жизнь, за все тридцать два года он нажил себе множество врагов, однако никто из них не был причастен к пожару, и никого не арестовали за поджог, хотя шериф всех допросил и в конце концов отпустил, и некоторые оттуда уехали и вообще пропали.
* * *
Клеток больше нет. А я слышу плач кроликов в ветре, в стуке дождя, в свистке тепловоза, который скользит по моим снам. За много миль от дома я слышу его, всю свою жизнь я буду его слышать. Плач зверьков в ловушке — они страдали, они умерли, они ждут нас в Аду. Наши родичи.
Filed under: men@work








December 13, 2017
life back to normal at Cafe Rene
 Лачуга должника и другие сказки для умных by Vadim Shefner
Лачуга должника и другие сказки для умных by Vadim Shefner
My rating: 3 of 5 stars
Фантазер, все время изобретавший в своих то ли сказках, то ли фантастике великолепный извод совершенно антисоветского коммунизма, поэтому что удивляться тому, что его мало издавали, и мы можем быть только благодарны «Азбуке» за этот том.
Етоев в предисловии прав — стилист он такой тонкий, что его тексты живут, дышат, чешутся, потеют, поскольку совершенно несовершенны. Такая небрежность (но не глухота, нет), конечно, редко бывает достоинством, так и тут. Детские придумки Шефнера очаровательны, но в небольших количествах (поэтому-то у меня чтение растянулось на такой неоправданно долгий срок), а в больших, как и сами дети, — раздражают. Потому что меры Шефнер не знает.
Пафос Шефнера в этих сказках везде одинаков: деньги — плохо, духовное богатство — хорошо. Тут не поспоришь, но такой коммунистический идеализм как-то изрядно заебал, если по правде. Ну а приемов у автора немного: либо это казенная докладная записка со вступлением и заключением, написанная каким-нибудь незамысловатым персонажем, либо чьи-нибудь воспоминания о ком-нибудь, такие же незамысловатые (автор тщательно везде прикрывается, что он-де не писатель, а писатель — это вон Шефнер (и это еще одна черта стиля, эдакий наивный постмодернизм)), либо кто-нибудь кому-нибудь столь же незамысловато рассказывает. Причем в той части, которая про ленинградское детство, все, как правило, хорошо и раздражает гораздо меньше остального ласкового журчания советской сатирической казенной речи.
Ну и да — довольно-таки раздражают его идиотские стишки. Мне рассказали, что есть люди, которые тщательно собирали их в отдельные файлы, но я не так и не понял, зачем. В отрыве от характера (он везде примерно один) она даже не очень смешна.
 The Famous Boating Party by Kenneth Patchen
The Famous Boating Party by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Гениальные стихи в прозе. Не белые, не верлибры, не разбитая на строчки проза – стихи в прозе натурально, музыка прозы. Леонард Коэн наверняка его читал, местами это очень слышно.
 Because it Is by Kenneth Patchen
Because it Is by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Еще одна книжка нереальных миров Пэтчена, с их удивительными персонажами, перетекающими из одного текста в другой. Загадка, конечно, в том, что по-русски Пэтчен обнаруживается примерно всего в одной подборке, озаглавленной “английская сюрреалистическая поэзия” (сами попробуйте).
 Still Another Pelican in the Breadbox by Kenneth Patchen
Still Another Pelican in the Breadbox by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Посмертный сборник очень раннего и очень позднего Пэтчена — собственно, остатки недоопубликованного в свое время. Ранние рассказы — в общем, грубый традиционный реализм, порой написанные сказом, напоминающим тот, что был у Олгрена или Уильяма Гойена. Стихи — тоже занимательные, многие (вот диковина) написаны в рифму и размер (здесь есть даже первый сонет, который опубликовали в «Нью-Йорк Таймз»).
Ну и пара рецензий — на переиздание Уитмена и Блейка. И там Пэтчен говорит дорогие сердцу всякого пытливого читателя вещи. Например, вот: «Эксперимент — это 9/10 искусства: всегда новое — пускай плохое — чаще так даже интереснее. Плохое новое стихотворение (с болью сердечной и кишками) лучше 10 У. Хью Оденов, какой день недели ни возьми». А вы спрашиваете, почему многую нынешнюю поэзию читать невозможно. Вот поэтому.
 Говориша by Павлик Лемтыбож
Говориша by Павлик Лемтыбож
My rating: 5 of 5 stars
Редакторесса этой книжки всеми силами пытается навязать Павлику роль эдакого «русского народного поэта», чего-то вроде Клюева или Есенина, но Павлик, разумеется — далеко не только они, потому что его диапазон литературных «отцов» в этой книжке невероятно широк. И нужно быть уж очень кривоглазым, циничным или ура-патриотичным, чтобы видеть в нем только продолжение «русского народного стиха». Павлик — поэт мира, русскость в нем — далеко не главное (хоть он ее порой и манифестуально провозглашает), в зипун и армяк он лишь рядится (и то не всегда), как митьки рядились в ватники и тельники. Это высокий кэмп — то, что он делает, это, конечно, превосходит узкие национальные границы.
 Patchen’s Lost Plays by Kenneth Patchen
Patchen’s Lost Plays by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Две чудесные пьесы, у которых, конечно, нет шансов вдруг возникнуть на русском, тем более на сцене. Первая, “Не смотри”, – маленький шедевр абсурдизма о противостоянии власти и социуму (в виде соседей, хаха), вторая – прекрасная лирико-нуарная радио-зарисовка о жизни, гм, города.
 Before the Brave by Kenneth Patchen
Before the Brave by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Первый сборник 1936 года. Преимущественно гражданская лирика протеста — ей, разумеется в значительной мере наследовал потом Гинзбёрг и в какой-то период — Леонард Коэн (в «Энергии рабов»). Классовая пролетарская лирика (с кивками в сторону Кремля) у Пэтчена гораздо талантливее, чем у бессчетных демьянов-бедных, — попросту потому, что это поэзия, а другое — нет. Пэтчен шкурой ощущал это свое «мы», ему было за что и ради чего возвышать таким пафосом голос. Все это очень искренне, в отличие от. У советских поэтов — сплошь фальшак из-под палки, искренние интонации стали возникать у «истинно-верующих» разве что позже, уже у шестидесятников, и то не у всех. Но в 30-х советского поэта с таким накалом высказывания представить трудно.
 An Astonished Eye Looks Out of the Air by Kenneth Patchen
An Astonished Eye Looks Out of the Air by Kenneth Patchen
My rating: 5 of 5 stars
Красивая и редкая книжка с нарезкой антивоенных и широко-пацифистских стихов.
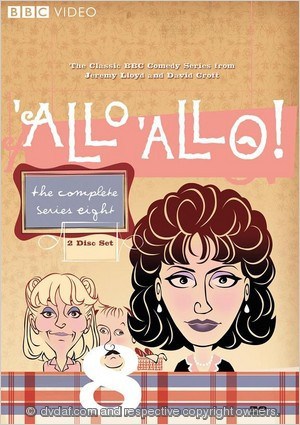
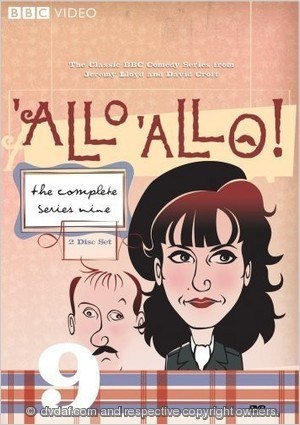


ну и этот шедевр должны увидеть, конечно, все:
Filed under: just so stories








December 12, 2017
mrs. nighthawk speaking

фотокомпозиция Джои Патрикта “По небу раскатился вой”

ну и у Вальдемара (фон) Казака была такая картинка, “Пенемюнде” (вот кого надо было позвать обложки к Пинчону делать, но кто ж нас слушает)
дальше немножко парад идиотов:
– кто-то фонтанирует интеллектом насчет Буковски
– здесь кто-то одаренный прочел “Сговор остолопов”
– а здесь лайвлиб осмысляет “Мост через канал Грибоедова” Михаила Гаёхи
ну и лица друзей:

Николай Федяев (экс-“Волосы”, ныне хороший новозеландский художник) о любви к родине Сибири

ну а новость вчерашнего дня: Лора Белоиван открыла собственный электрический лабаз с пикчами и прочим
вестник портового рока:
Filed under: pyncholalia, talking animals








December 11, 2017
Ken Kesey – Otto the Bloody
еще один старый рассказ, всплывает до сих пор в сети, спасибо, что хоть автора указывают
Кен Кизи
Отто Кровавый
Погоди-погоди… Как же этого мужика звали? Думаешь, я всё упомню после той отходной, что он закатил? А потом — если таким делом, как я, занимаешься, с пьянок просто не вылезаешь… Нет, не Содом с Гоморрой. И не падение Рима. О, погоди-ка — знаю! Мы ж тут про время по Христу базарим, про эн-э, цитирую: «Как минет тыща лет, избранных вознесут на Небеса, а Сатану спустят с цепи, и говно полетит во все стороны». Хо-хо-ха-ха… Откровения, 20:7, или вроде того. Клевая книженция. Ладно, кажись, вспомнил. Поехали дальше…
* * *
Время стояло девятьсот девяносто девятый год, одиннадцать месяцев и тридцать дней, плюс-минус пару-другую високосных, в старой доброй Ермании — в Фаршляндии, где ж еще? Где пушечный фарш готовят, если не понял.
Мужика Отто звали. Принц Отто, единственный сынок старого короля Отто Великого, мудак набожный, каких мало, шесть монашек с ним сюсюкались, семь попов уму-разуму учили, а сколько чирьев его доставало — и не пересчитать. Идеальный рецепт духовной пищи, на таком компосте из Писания какая угодно пагуба вырастет, согласен? Еще совсем спиногрызом Отто уже за всю врубался в Откровения. Просто тащился, когда ему эти семь попов на сон грядущий читали — каждый вечер новый, и так всю неделю. К тому времени, как у него голос ломаться стал, у него уже вся Книга Откровений от зубов отскакивала. Попы в нем души не чаяли. А когда первая щетина из прыщей полезла, он уже вовсю в святых припадках заходился и ангелов апокалипсиса наблюдал! Видения! Звери, колесницы небесные, все дела. Попы рассудили, что их ученику королевских кровей пора браться за румпель и вести корабль государства сквозь оставшиеся годы столетия. И вот они отправляют Отто Великому весточку: мол, видения юного Отто явно показывают, что наследничек готов принять штурвал державы и взойти на Святейший Престол.
Да только старый Отто смотрел на все это немного иначе. И он посылает свою гвардию, чтоб сопливого ханжу притащили к нему обратно в цепях. Как же, корабль государства он поведет! Папа ему покажет, куда этот румпель воткнуть!
Пока суд да дело, Король сам решил в часовенку зарулить, помолиться, чтоб Господь его на пусть истинный наставил, понимаешь, о чем я, да? Чтоб уж наверняка не облажаться. И пока он там поклоны бил, темный рой ангелов-мстителей — числом семь, как люди брешут, — налетел на него из темных закутков, да раскроил его императорское препятствие на семь кусков. А куски уволокли с собой в разные стороны. И ни одна из кровавых частей тела своих соседок больше никогда в жизни не видела.
Так сынок Отто Великого стал известен как Отто Кровавый — бич богохульников, прелюбодеев, колдунов и прочей швали. И бичевал он их всех при своем дворе так успешно, что вскоре прелюбодеев да колдунов не больше полудюжины осталось. Вскоре начало ему казаться, что земные заботы его подходят к концу, а тут еще конец света на Новый Год назначили и всё такое…
Насколько мне помнится, созвал он свою свиту в императорскую пивную и объявляет: «Судный день грядет. Надо бы нам взойти на вершину, да отметить конец света так, точно наступает он по нашей милости!»
«Зашибись, — согласилась свита. — Страшный суд.»
И вот в канун Нового 1000 Года взял он всех своих генералов, всех своих корешей, семерых попов и шестерых монашек, жену на сносях, поросенка, здоровенного мастифа, несколько лошадей с повозками, телеги с вином и прочее, и направились они к вершине ближайшей горы. На самом деле, конечно, так себе — холмика. Да только начало темнеть. Жене его приходилось то и дело подскакивать на крупе беспрестанно пердевшей кобылы, и все лучшие чувства ее были тем немало оскорблены. Попам уже нужно было где-то помолиться, монашкам — пописать. И холмик сойдет.
Зарезали они порося, на пику насадили и над большим костром подвесили. Потом порубали на куски и сели винище хлестать. Веселились, значит. Плясать пустились. Клялись в вечной дружбе ангелам горним, которых все равно разглядеть не удавалось. А потом забрезжило утро, и свет отнюдь не кончился. Фигу.
Отто немного обиделся. Жена про свои колики разнылась. Попы молились так, что сраки отскакивали. А конец света все не приходит, хоть ты тресни. Отто тогда решил сварить в кипятке одного попа — самого жирного, поскольку другие попы рассудили, что проблема, видать, в нем, в этом жирном. Господу обжоры неугодны.
Днем они выспались, снова костер разложили, зажарили на углях мастифа. Только стемнело, как снова во все тяжкие пустились. Парад на верхушке холма устроили. Вопили, что твои привидения. Рыдали, себя не помня, главы пеплом посыпали, а грязью глаза замазывали. Обмочившись по колено, снова вырубились. А наутро… наутро… земля вращалась по-прежнему. И солнышко сияло. И такого обозленного вассала, как король Отто Кровавый, свет еще не видывал.
* * *
Ну вот. Год однатысячный, январь себе пыхтит дальше со счетом три сваренных вкрутую попа и пара монашек попухлее впридачу. На вершине Горы Тысячелетия — король Отто Кровавый с супругой, королевой Отто. И рождение короеда, и конец света серьезно задерживаются. Гром гремит. Ветер воет. Жена канючит: «О, мой супруг, если б только во мне дело было, ни словечка недовольства не сорвалось бы с моих губ. Но как же ребенок?»
Отто и сам был не сильно доволен. Вино кончилось. Свита сбежала. Попы либо сварены, либо ноги сделали. Не над кем больше на холмике королевствовать, кроме клячи заезженной, телеги, да жены, у которой уже все брюхо сводит.
Швырнул он жену в телегу, сам забрался на лошадь, и потрюхали они домой. По пересеченной местности. Телега скрипит. Кобыла пердит. Жена гундит на каждой рытвине и кочке: «Как же ребенок, как же ребенок…»
Четвертый день января только занимается, солнце еще не проснулось, а она уже вовсю ссыт да стонет. Отто принялся уже взвешивать все за и против варки ее в кипятке, да немного увлекся. Телега на булыжнике подскочила, и супруга из нее прямо под откос катапультировалась.
Кобыле это, видимо, понравилось. Свалив с себя ношу, она налегке заскакала дальше, потряхивая на ухабах битой телегой.
Когда Отто, наконец, добрался до супруги, та уж последний вздох испускала.
«Слава всем святым, — посочувствовал ей Отто. — Отмучилась свое.»
И тут увидел, как в ее измазанных глиной юбках что-то шевелится. Младенчик. Преждевременно выдернутый, забрызганный кровью рождения — мальчишка! Принц! И впервые за все свое эгоистическое существование Отто почувствовал, как самую крохотулечку дрогнули его сердечные струны, о наличии которых он даже не подозревал. Сорвал он нижние юбки со своей усопшей возлюбленной, чтобы обтереть королевского наследника, и обнаружил — не поднимаясь с колен на этом поросшем травою склоне, под чириканье зимних птах и блеск зимнего солнца, — что на младенце вовсе не брызги беспокойного рождения.
То были чирьи! Чирьи! Чирьи!
«Эй, наверху, как тебя — Всемогущий!» — заорал Отто небесам. — «Что за хреновина? Я тут по горам мудохаюсь, как полагается, а Ты крапленую карту сдаешь? Я тут все по правилам, а Ты мне всего пацана чирьями устряпал? Что это такое, а? Кончатся эти муки когда-нибудь или нет?»
И небеса осклабились ему в ответ и вроде как ответили: «Настройтесь на нашу волну к концу третьего акта, и все тухлые загадки разрешатся.»
И вот в промозглой тевтонской глухомани сидит наш молодой король Отто: прыщавый младенчик в одной руке, усопшая возлюбленная — в другой. Короед уже вопит, жрать просит, а мамочка быстро остывает. Телега крякнулась, кобыла сбежала… не говоря уже о том, что за Конец Света даже билетов не вернули. Ну где вы еще видали такого залупленного на весь мир монарха?
Он скрежетал зубами и рвал на себе волосы. Не помогло. Он воздевал очи горе за наставлениями. Ничего, кроме ничего. Он опускал очи долу. А тут что можно отыскать, кроме сорняков да булыжников, изгаженных преждевременным началом наследника? И тут, из стигийских бездн отчаянья — проблеск надежды… куда там, целая путеводная звезда! Зрелище прекрасное и кошмарное одновременно. Воздетые к морозному светилу — двойные дары его безжизненной невесты, истекающие млеком, точно алебастровые фонтаны!
И вот тут наш жестокосердый герой потихоньку начал, как говорится, слетать с катушек.
Но кто б говорил, кто б говорил? Если из валунов кровь выжимаешь, то чего б и жмурика не подоить? А после — и козу, и ослицу, и, наконец (вот этот эпизод мною особенно любим), — щипавшую травку корову с кривым рогом и парочку ее же чад. Отто рассудил, что раз она кормить двоих предназначена, прокормит и четверых.
В окружавшей их сельской местности также водились курятники, грядки с капустой и погреба с картошкой. Стога сена для ночевки и конские попоны взаймы. Как средь бела дня, так и темной ночью. Лохи деревенские так, кажется, ничего и не заподозрили.
Папаша с сынком рылись по помойкам, крали что ни попадя — и выжили. Сельская жизнь шла парочке на пользу. Кожа у ребенка очистилась, а у папаши уровень желчи упал. Казалось, они грабили окрестности с полной безнаказанностью. Отто и в голово не приходило, что деревенские лохи были свидетелями каждой такой неуклюжей покражи. Они с наследничком стали знаменитыми. В этом захолустье о них судачили в каждой хижине и лачуге. Вот вам королевская семейка — Чокнутый Отто Кровавый, властелин всего, на что хватает глаз, со своим Прыщавым Прынцем подмышкой, как с трофейным порося, тырит творог и черные корки с заднего крыльца, что твой обычный жулик.
На самом деле, свернутым набекрень мозгам бедолаги Отто ни разу даже не померещилось, что он может быть властелином хоть чего-нибудь… пока однажды на заре скитания не привели их с чадом на один пригорок, откуда они увидели вдали шикарный замок.
«Дом,» — сказал Отто пацаненку.
Стоял май, цвели эдельвейсы. Отцу с сыном понадобилось четыре месяца, чтобы от горы Тысячелетия добраться до ворот замка в девяти милях от нее. Что в среднем выходило по две мили в месяц, плюс-минус пару лиг или фарлонгов, или в чем там они тогда расстояния меряли.
Отто сильно удивился, когда в воротах их никто не остановил. А оказавшись внутри, понял. Да он ночевал в свинарниках почище! Во что бы ни уперся взгляд его — везде царило омерзительное запустение. В переулках кишели крысы. Прилавки торговцев сгнили. Горожане ёжились под злобным присмотром стражи. Старые оборванцы и юные беспризорники дрались за мусорные кучи. То есть, не город, а сущая дыра. Как все могло так сильно измениться у него на старой доброй родине всего за несколько месяцев?
Ему просто не пришло на ум, что в городишке-то не изменилось ничего, пока он по кущам шибался. Он сам изменился.
Он прошагал по ступеням мимо стражи, разинувшей рты, и вступил в свой тронный зал прямо посреди ежедневного правежа. Бичевали солидную компанию распростертых крестьян — «дабы очистить их мерзкие грязные души», как извещали бичеватели, «в честь подготовки апокалиптической фантасмагории, которая покуда еще только грядет!» Старт, вишь ты, отложили малехо, чтобы хорошенько в доме прибраться, по-святому. Сцена прям из Иеронима Босха: бичеватели бичуют… оргáны завывают… святоши предают анафеме что ни попадя.
«Хватит уже!» — орет Отто. — «Как ваш король приказываю вам прекратить! эту! херню! навсегда!»
Во как! Попы-председатели все свои королевские мании обоссали при виде Отто и престолонаследника, однако ж пытаются блефовать. А какие у тебя доказательства, что ты и впрямь — наш король? На короля явно не похож — весь оборванный, заросший, будто юродивый, а кроме этого король наш вознесся к славе с вершины горы. И многие, между прочим, тому свидетелями были. Кто тут иные показания даст? — нарастает требовательный гомон. «Кто?»
«А как же ребенок?» — вздымает вверх недовольного таким поворотом событий младенца Отто. «Как же ребенок?» — вопрошает он еще раз. «Как же ребенок?»
И гам стихает на самом подъеме, сбитый витиеватой логикой вопроса этого безумца, — чик, точно косой подрезали.
Потому что вот оно лежит — вечное зерно всего этого долгого и запутанного предприятия. «Как же ребенок?» — снова настаивает Отто. «Как же ребенок?»
А ребенок плачет. И подымаются с пола распростертые крестьяне. «Как же ребенок?» — подхватывают они этот клич. «Как же ребенок? Как же ребенок?»
И попы со стражей и инквизиторами начинают соображать: «Лафа кончилась, лохи восстали — теперь все святые сами за себя!»
А мораль этой путаной побрехушки (уж брехни-то в ней больше, чем истины)? Славе нету конца, коль залез на верхушку, а старьё мы и сами вычистим.
Тут проще трюка пока не нашли: хочешь — бери, а не хочешь — бросай, хочешь — поверь, хочешь — все отрицай, пой тра-ля-ля, пока не стошнит… Я? А чё я? Армагеддон на носу. Хи-хи-хо…
Парафраз Откр. 20:7: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы…»
Filed under: men@work








December 10, 2017
never thought he had it in him

“Велосноб” в топе продаж “Москвы”, в хорошей компании

еще немного хорошей компании для наших книжек
[image error]
а вот еще немного “Скрытого золота” приехало в страну Канадию
Афанасий Мамедов выделил “Картину мира” Клайн на ярмарке
“Медуза” тоже ее выделила (и пересказала содержание)
“Сигма” перепечатывает отрывок из “Одинокого города”
голоса коллег: Александр Сафронов

вести из-за: в Киев приезжает пинчоновед (и много-кого-еще-вед) Джозеф Тэбби
еще раз поставили “Черного всадника”
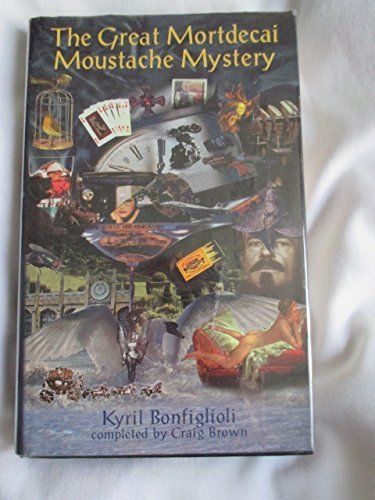
ну и обложка недоизданного по-русски Маккабрея в коллекцию
Filed under: talking animals








December 8, 2017
I have a massage from Michelle
в “Голосе Омара” сегодня – воспоминание о “Плотницкой готике” Гэддиса

отложения “Бродяг Дхармы” Керуака
а тут их читает Сын Литератора

несколько прекрасных фотографий того периода
бедняжечка продолжает осваивать “Слепоту” Сарамаго

удивительное где-то рядом. ссылку не даю, потому что нефиг. надо ли говорить, что эти люди даже не спрашивали разрешения на такое вот издание (в отличие от других, которые когда-то спрашивали), ну а что они там начитали, одному богу известно. но судя по обложке “Васи с Марса”, там должен быть какой-то ебаный ужас
Filed under: talking animals








December 7, 2017
silly old bats
напомню – вот страница “Скрытого золота ХХ века” с выдержками из прессы и полным (пока небольшим) нашим каталогом

“Картина мира” и “Одинокий город” в контексте прошедшей ярмарки
Духовно Богатая Дева о “Слепоте” Сарамаго:
“Слепота” Сарамаго – самая мерзкая в плане сюжета книга, какую я читала после “Благоволительниц”. Написано отлично, чертовски талантливо, но как же тяжко, вот что я скажу.
ну и так далее. в плане сюжета

а вот пополнение на полку современного постмодерноведа

мир Пинчона-предка: индейца с айфоном все уже видели, вот вам женщина с киндлом

одно из самых любимых мест на планете
Filed under: pyncholalia, talking animals











