a bunch o’ books etc.
 Level 7 by Mordecai Roshwald
Level 7 by Mordecai Roshwald
My rating: 3 of 5 stars
Минималистская и клаустрофобная дистопия с сенсорной депривацией. Местами – прямо-таки риторический пропагандистский антивоенный памфлет, но персонажи его отнюдь не картонны, как в этом упрекают автора. Сочувствовать Х127 невозможно, конечно, в силу естественных причин, но примерять на себя очень даже можно.
 Trouble on the Heath by Terry Jones
Trouble on the Heath by Terry Jones
My rating: 4 of 5 stars
Довольно милый развлекательный балаган, непритязательный и с реверансами в сторону Тома Шарпа. Вполне возможно – киносценарий.
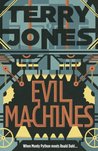 Evil Machines by Terry Jones
Evil Machines by Terry Jones
My rating: 4 of 5 stars
«Машины зла» начинаются как серия виньеток в духе садистских стишков и историй на ночь в пионерлагере («одна бабушка купила телефон, а он говорил правду…»), но примерно к середине становится понятно, что это единая сказка про бунт машин и классического безумного изобретателя, непритязательная и первостатейно бредовая. Издана методом краудфандинга сиречь общественной подписки.
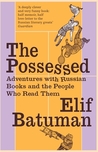 Possessed: Adventures with Russian Books and the People Who Read Them by Elif Batuman
Possessed: Adventures with Russian Books and the People Who Read Them by Elif Batuman
My rating: 5 of 5 stars
Довольно потешные на первый взгляд записки читателя (и не обязательно писателя при этом). Но это — книжка про книжки, всё, как мы любим, — независимо от того, захочется нам при этом читать великорусскую литературу или нет. Как при любом правильном чтении, повествование постоянно заходит в какие-то тупики, ветвится, мы останавливаемся подобрать всякую фигню по углам, не соображая толком, понадобится это нам или нет. Ракетка Льва Толстого? Ледяной дом? Гусь Бабеля?
Книжка сбивчивая и дендритная — у нее есть начало, но нет и не может быть конца, коль скоро мы не перестанем жить с книжками (а на месте русской литературы, понятно, может, оказаться любая — Штатов, Турции, Зимбабве, Узбекистана, чего угодно). Особой одержимости в ней тоже нет. Это просто наша читательская жизнь перетекает из литературы и обратно.
Парад уродов в ней — как в жизни. Бесы — такие же. Открытия, разочарования, просветления и мгновения непроходимой тупости — тоже, как в ней. И не такая уж она смешная, если приглядеться повнимательней.
 Why Translation Matters by Edith Grossman
Why Translation Matters by Edith Grossman
My rating: 5 of 5 stars
Мое глубокое убеждение — переводчик должен переводить, а не разговаривать о переводе. Бывают, конечно, исключения, но они редки — как вот эта книжка, построенная на лекциях, например, но до определенной степени. Эдит Гроссмен, выдающаяся переводчица с испанского на английский, — совершенно наш чувак, и очень многое из того, что она тут говорит, очень точно ложится на картинку переводческого и издательского дела в ръяз-пространстве (надо только заметить Штаты на Россию), — говорит с горечью и желчью, при этом, которые легко переводятся в наши реалии. Приятно иногда эдак ощущать поддержку своих инстинктов с другого берега, нащупывать мысленную опору.
(И все было бы прекрасно, пока речь не заходит о поэзии. Можно сколько угодно помавать руками о тонкостях поэтического перевода, но у Гроссмен в приводимых примерах попросту нет рифмы, а переводит она сонеты XVII века, — и поневоле возникает желание отправить ее с лекторской кафедры не лениться, а исправлять недоделки. Лучше бы о поэзии она вообще не заговаривала, все ощущение портит).
А в целом, хоть ничего принципиально нового она не говорит, я бы смело рекомендовал эту книжку всем коллегам по цеху. Ну чисто вдохновения ради.
 Aspects of the Novel by E.M. Forster
Aspects of the Novel by E.M. Forster
My rating: 3 of 5 stars
Как лектор и критик Форстер — вполне балагур и клоун, местами ядовитый, местами остроумный, очень английский (в ушах его лекции звучат почему-то голосом Стивена Фрая). Он в этом курсе лекций пытается наложить свою матрицу на «роман» — зверя, которого за столько веков так и не поймали. И ему в начале ХХ века это поначалу вроде бы удается, когда он полемизирует с той вульгарной «теоретической моделью» чтения, которой нас, я подозреваю, до сих пор по большей части учат в школе: эта «псевдонаука», выступлениями против которой Форстер так знаменит, протянула свои щупальца от Белинского до Дерриды. А Форстер читает роман как, в общем, нормальный умный человек. Традиционный роман XIX века то есть.
Потому что книжка хороша до определенного предела. Когда он принимается ругаться на Джойса, которого не понял (как не понял, я подозреваю, и «Фальшивомонетчиков» Жида, которых я не читал и судить не могу, но они уж очень напоминают источник вдохновения для «Распознаний» Гэддиса (кстати)), потому что для него это слишком уж адский модернизм… так вот — когда начинаются глупости про Джойса, понимаешь, насколько Форстер пылен. К нему теряется всякий интерес, сказать правду, и уважение. Потом уже как-то не важно, что еще он нам имеет сказать. Становится понятно, там все будет ограничено викторианскими углами и чинцем в лучшем случае, а говоримое им окажется лишь чуть-чуть лучше методичек по соцреализму. Лучше, но недостаточно лучше, чтобы не забыть его на полке. А может быть, дело во мне.
 In Translation: Translators on Their Work and What It Means by Esther Allen
In Translation: Translators on Their Work and What It Means by Esther Allen
My rating: 5 of 5 stars
…Если переводчика все же «прислонить в тихом месте к теплой стенке» и заставить разговаривать, он/а в лучшем случае примется раздувать сложность своих творческих/технических задач, довольно рутинных, накачивать в свою работу дополнительной ценности в глазах обывателя, так сказать (как это недавно произошло с одной известной птичкой), в худшем — раздувать щеки и преувеличивать собственные личные заслуги. Удержаться на грани пристойного переводчику отчего-то, как правило, довольно трудно — может, дело в комплексах недооцененности, а может, потому, что весь экшн в этой работе внутри, не станешь же снимать кино про то, «как ботаны пялятся в мониторы» (с).
В этом сборнике участникам, по большей части все удалось (ну, за исключением пары совсем уже клинических представителей цеха). Тексты внятны, люди занятны. Хотя многие «проблемы», с которыми они сталкиваются, давно решены (нами, как минимум), а «задачи» представляются довольно-таки подлежащими решению (вплоть до того, что сами под эти решения ложатся). Иногда буквально вплоть до «Марьванна, нам бы ваши трудности» (ах, как нам сохранять иностранность в тексте? ах, нам лучше курсив или кавычки? …ну ебвашумать, деточки). Все равно иногда приятно получать подтверждение верности каких-то своих переводческих решений и лишний раз убеждаться, что ты в мире не одинок.
Fun Fact With Books: а вы знали, что только с 1925 по 1969 г. «Грозовой перевал» во Франции переводился и издавался 20 (двадцать!) раз? Это к вопросу о «канонических», блядь, переводах.
 Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms the World by Nataly Kelly
Found in Translation: How Language Shapes Our Lives and Transforms the World by Nataly Kelly
My rating: 4 of 5 stars
Милый журнальный инфотейнтмент на приятную тему, с обилием фактоидов, которые пригодятся адме-потребителям для каких-нибудь презентаций или чтоб сойти умными в частной беседе. Триумф СЯУ-знания в его не самом отвратительном виде. Но вообще, конечно, – порожняк и мозговая жвачка.
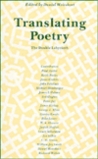 Translating Poetry: The Double Labyrinth by Daniel Weissbort
Translating Poetry: The Double Labyrinth by Daniel Weissbort
My rating: 5 of 5 stars
Пожалуй, лучшее из читанного за последнее время по теме – сборник высказываний поэтов и переводчиков, которым не лень было говорить о том, как (а некоторые и зачем) они это делают. Звезды тут практически все – и всё интересно, если даже не все убеждают в легитимности своих окончательных версий (там, где я был способен это оценить). Поэтическая кухня без соплей и помаваний руками, Очень Рекомендуется.
 At Large And At Small: Confessions Of A Literary Hedonist by Anne Fadiman
At Large And At Small: Confessions Of A Literary Hedonist by Anne Fadiman
My rating: 5 of 5 stars
Вторая книга очерков писательницы, уже становящейся одной из практически любимых, — уже не только и не столько о книгах (что мы бы предпочли в любое время), а «семейных», в лучших традициях жанра, который она же и описывает, и дает рекомендации (Давенпорта, правда, там нет, зато есть Филлип Лопати). Гениальное там почти все — про сов и жаворонков, почту, мороженое, кофе, коллекционирование бабочек, да что ни возьми, выходит смешно, трогательно, местами пронзительно, неизменно мудро. Это голос старшей сестры по разуму и «нашего чувака» примерно во всем (ну вот насчет любви к американскому флагу я только не знаю, но Энн Фэдимен, по крайней мере, объясняет эволюцию этой склонности). В таких мысленных диалогах (а чтение вообще — диалог, не замечали?) с подобными литературными и человеческими голосами пользы всегда больше, чем в высиживании академических курсов.
А нынешним читателям и критикам (тем, которые поумнее) особо рекомендуется текст «Прокруст и культурные войны».
 Rereadings: Seventeen writers revisit books they love by Anne Fadiman
Rereadings: Seventeen writers revisit books they love by Anne Fadiman
My rating: 5 of 5 stars
Как недвусмысленно показывает название, это сборник прозаических поэм о личных отношениях некоторых людей с некоторыми книгами (и одной пластинкой) + манифест самой Энн Фэдимен о перечитывании. Среди прочего, здесь на примерах объясняется, на ком лежит ответственность за то, почему книжки, от которых нас таращило в детстве и юности, могут очень не понравиться нам потом. На нас. Ну потому, что с мудростью и опытом может случиться, конечно, открытие, что Льюис женоненавистник и расист, а Грин плохой писатель, но цельного детского восприятия-то уже не будет, и неизвестно, что лучше — понимать многое (с одной стороны… но с другой стороны…) или не понимать ничего и просто с нетерпением ждать, что будет с героями на следующей странице. Я вот честно не знаю. Но такие запоздалые открытия, видимо, не должны отменять ничего — перечитываем же мы не только книгу, но и себя, впервые прочитавшего ее. Но вопросы к авторам, их этике и взглядам остаются: что они нам впаривают и на что рассчитывают? Только на совсем безмозглых?
Но вообще этот сборник — что называется, гимн чтению и читателям. Настоящим. Серьезным. Фрикам. Потому что мы все — они, изгои и выродки. На таких держится единство этого мира. Рекомендуется всем настоящим читателям.
 Objects on a Table: Harmonious Disarray in Art and Literature by Guy Davenport
Objects on a Table: Harmonious Disarray in Art and Literature by Guy Davenport
My rating: 5 of 5 stars
Нашелся еще один (на самом деле — не один) непрочтенный Давенпорт — четыре фантазии-медитации о натюрмортах (и, понятно, не только). Блистательные, как все у него — я не знаю исключений. Это продолжение «Географии воображения», которую лучше впитывать по-чуть-чуть и да, с разрывами во много лет.
Среди прочего в этой небольшой элегантной книжке нам рассказывают, в чем корни нынешней одержимости фудпорном (Давенпорт не знал этого слова), который и есть выродившийся до инстаграмма жанр натюрморта, без символических глубинных пластов, разумеется, — он показывает только узколобость авторов ням-ням-фотографий и их тягу к принесению жертв столь же выродившимся богам общинного признания: смотрите, я такой(-ая) же, как все, приличный человек, мой алтарь выглядит пристойно. Фудпорн — как воскресная церковь в заскорузлом иудео-христианском обществе. На территориях ръяз-ктулхуры — легкая вариация: на официозно-идеологическом плане иконостасы политбюро сменились портретами кремлевской банды в церквях со свечками, а остальное народонаселение постит изображения мисок с пайками. Давенпорт наверняка оценил бы эволюцию.
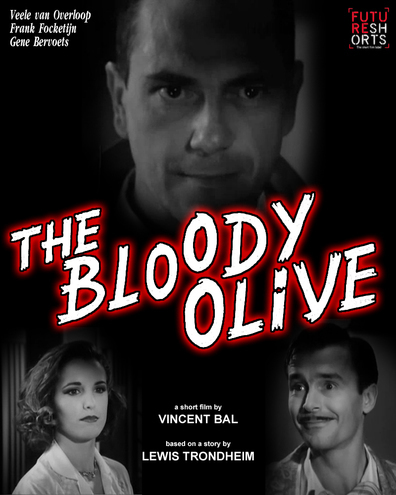

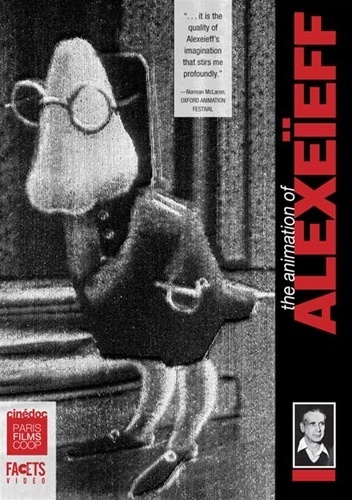


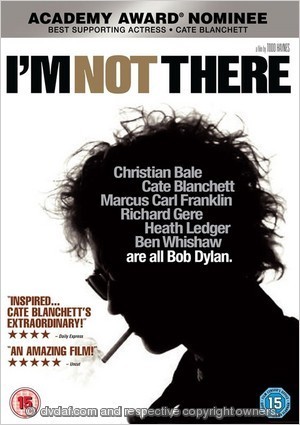

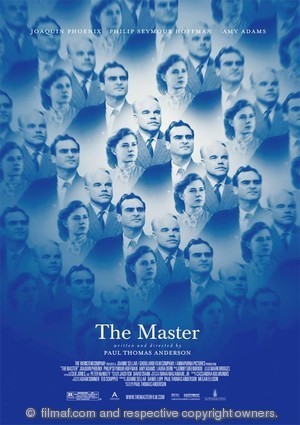
Filed under: just so stories




