Instrumentality, etc.
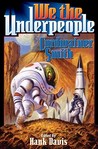 We the Underpeople by Cordwainer Smith
We the Underpeople by Cordwainer Smith
My rating: 5 of 5 stars
Вот все нам рассказывают о поэтичности Кордуэйнера Смита, но это просто литература (а фантастики столько лет тщатся доказать принадлежность своих излюбленных субжанров к большой литературе — с УДЛП, — что поневоле заподозришь их в том, что они сами в это не верят: вот и тут тот же случай), потому что поэзия — в самом охвате будущей истории, от 1900 до примерно 16 000 года (хоть и отрывочно). Человечество, конечно, столько не проживет, поэтому его сказания из будущего давно прошедшего времени, которого все равно не будет, и трогают нас так сильно, потому они так и пронзительны, среди прочего. Это легенды несбывшихся времен.
«Научной фантастикой» звать это довольно затруднительно еще и потому, что если это и фантастика, то она скорее социально психологическая (что там «научного», убейте меня не понимаю). КС подробно (хоть, опять же, и отрывочно) пытается спроектировать, что будет происходить с человечеством и нашим биологическим видом, проживи оно (он) и впрямь так долго, что у него отомрет, например, не только возможность религии, но и потребность в ней (при этом оставаясь человеком, судя по всему, верующим и возвращаясь к религиозным притчам и сюжетам). Фантастика у него, пожалуй, лишь в набросках различных форм эволюции человека — от вполне наглядных и графичных до непредставимых вообще, а остальное (эти планоформы, космосы в кубе и прочее) — шелуха, на которую так любят обращать внимания критики. Вишенками на тортиках повсюду разбросаны отсылки к мировой литературе и фокусы с разными языками, чтобы читателям занимательнее было играть в простые угадайки.
Для меня гораздо любопытнее было разглядывать — по крайней мере, в этой части эпоса — антиутопию похлеще, чем у Замятина, Оруэлла и Хаксли. Недаром все же специалист по ведению психологической войны ездил в совсоюз. Инструментальность (или как ее там) — кошмар с человеческим лицом: в нем все для людей, это режим не людоедский (в отличие от, допустим, третьего райха или советского гулага), он не против индивидуального человека (даже не сильно против недолюдей). В нем все для счастья человека, лишь бы не было войны. В частности, одна основа идеального будущего вот: «Никаких массовых коммуникаций, только в рамках правительства. Новости порождают мнения, мнения — причина массовых заблуждений, заблуждение — источник войны». Или 12 правило «бытия человеком»: «Любые мужчина или женщина, обнаруживающие, что он или она формируют или разделяют неавторизованное мнение с большим количеством других людей, обязаны незамедлительно доложить об этом ближайшему подначальнику и явиться на лечение». Шутки шутками, но посмотрите вокруг, ага. “Период террора и добродетели”.
Ну и да — КС не идиот-оптимист и прекрасно отдает себе отчет, что для преодоления тоталитарной Инструментальности даже в такой «мягкой» или «благотворной» форме понадобится не одно тысячелетие. За десяток, даже за несколько десятков или сотен лет перевороты в людских мозгах не совершаются. Поэтому-то он и увеличивает среднюю продолжительность жизни людей — за нынешнюю сколько-то поумнеть ни отдельному человеку, ни всему человечеству невозможно. А мы продолжаем наблюдения за окружающей нас Инструментальностью.
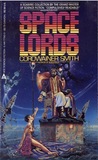 Space Lords by Cordwainer Smith
Space Lords by Cordwainer Smith
My rating: 5 of 5 stars
 The Instrumentality of Mankind by Cordwainer Smith
The Instrumentality of Mankind by Cordwainer Smith
My rating: 5 of 5 stars
Плюс еще несколько смешных и совершенно гениальных рассказов, особенно про шпионов и военспецов хорошо получается. и да – Херберт Хувер Тимофеев, конечно, очень смешно, но за “Постсоветских православных восточных квакеров” Смиту в Сибири надо памятник где-нибудь поставить
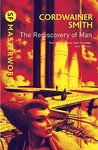 The Rediscovery Of Man by Cordwainer Smith
The Rediscovery Of Man by Cordwainer Smith
My rating: 5 of 5 stars
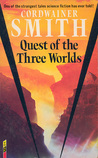 Quest Of The Three Worlds by Cordwainer Smith
Quest Of The Three Worlds by Cordwainer Smith
My rating: 5 of 5 stars
Отличный и очень развлекательный роман в рассказах – и по нему отчетливо видно, насколько многим обязана Кордуэйнеру Смиту вселенная Джосса Уидона (особенно Светлячка и Кукольного дома): от базаров до баллад.
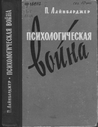 Психологическая война by Paul M.A. Linebarger
Психологическая война by Paul M.A. Linebarger
My rating: 2 of 5 stars
Перевод полиТУПравленческий — «переводчики» и их «редакторы» пишут языком эпохи и, кроме того, путают понятия «психологическая война» и «пропаганда», сводят весь спектр психологического воздействия к пропаганде, а от этого получаются глупости, вроде упреков автору за «ошибки»: путает-де спецпропаганду и военные хитрости. Посмотреть еще разок на название переводимой книжки этому колхозу (4 переводчика и 2 редактора) никому в голову не пришло, меж тем как там ясно написано: психологическая война. А не пропагандистская. Очень пролеткультовский подход, зато в предисловии много всякой хуйни из классиков марксизма-ленинизма, программы КПСС и других душераздирающих, скулосворачивающих и зубодробительных документов эпохи. Имена и реалии в самом тексте исковерканы настолько, что иногда не представляется возможным понять, о чем вообще идет речь.
Зато для нынешнего Кремля, должно быть, — ценный источник вдохновения. Нормальным же читателям на этот классический продукт Воениздата времени тратить не стоит. Как обычно — адовое предисловие, но очень созвучное нынешней кремлевской хуйне (про то, как проклятые империалисты, конечно же, хотят поставить СССР на колени, но мы, вооруженные самой передовой теорией на свете, им рабоче-крестьянски не дадимся) + обычное советское вранье (про USIA, среди прочего). Кроме того, безграмотные политработники ее сократили, так что из любви к Лайнбаргеру стоит читать оригинал. Эти умники даже имя его исковеркали — Поль (!) Лайнбарджер, и такое написание дожило до наших дней (см. самую вменяемую статью про него, хоть и она не без мелких глупостей: http://www.mirf.ru/Articles/art5772.htm). А про фамилию нам тут отчетливо говорят: http://www.ulmus.net/ace/csmith/cspro… — уж нынешние авторы-то могли бы проверить. Нет, куда там — пролеткульт жив-здоров…
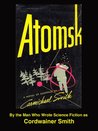 Atomsk: A Novel of Suspense by Carmichael Smith
Atomsk: A Novel of Suspense by Carmichael Smith
My rating: 4 of 5 stars
Пришла пора наконец признаться, зачем я взялся за творчество Пола Лайнбаргера / Кордуэйнера Смита / Кармайкла Смита / и т.д. Подозрение-то у меня было и раньше, а в «Атомске» оно подтвердилось. Его следует рассматривать в контексте дальневосточной литературы. Американский китаист и спецпропагандист, крестный сын Сунь Ят-сена, понятно, не мог не написать роман, действие которого происходит в Японии, Маньчжурии и на территории Приморского края. Сам секретный атомный завод, на котором невесть что происходит (судя про тексту — русские просто облучают зэков радиацией и смотрят, что получится), располагается «в сопках недалеко от Владивостока», а точнее — где-то в тайге среди притоков Даубихэ, неподалеку от Яковлевки, Евгеньевки и Архиповки. Туда и отправляется из Благовещенска наш супершпион (сын ирландца и алеутки) — со всеми остановками по Транссибу…
Прелесть романа не в экшне, который там есть и вполне трэшовый (и с некоторой вполне развлекательной клюквой), а в темах «психовойны», которые занимали так или иначе автора. Первый важный посыл: чтобы выиграть войну, нужно возлюбить своего врага. Ты ее тогда, т.е., не выиграешь — само понятие войны уйдет из формулы. Это, как мы понимаем, вполне радикально для первых лет послевоенья, когда начиналась гонка вооружений. Подпункт первого посыла: русские клевые, а вот власть у них — говно. И всегда им была, потому что, будучи клевыми, русские — нация терпеливых рабов. Это тоже важное различение и замечание, потому что прошло сколько лет после «великой победы»? то-то же. Ну и третий элемент «пси-опа» — собственно сам майор Дуган, который исключительно психологическими методами мог становиться кем угодно — японцем, русским, уйгуром, китайцем, англичанином и т.д. Кое-какие методы в романе описываются, но мы обойдемся без спойлеров.
 Москва рок-н-ролльная. Через песни – об истории страны. Рок-музыка в столице. Пароли, явки, мода by Владимир Марочкин
Москва рок-н-ролльная. Через песни – об истории страны. Рок-музыка в столице. Пароли, явки, мода by Владимир Марочкин
My rating: 4 of 5 stars
У Марочкина, конечно, выходит вполне альтернативная история русского рока и совершенно параллельная (с лично моей, к примеру) культурная вселенной, в которой фигурируют такие творческие коллективы, как «Карнавал», «Круиз» и «Ария». Не то чтоб их никогда не существовало, конечно, но — говорю же, вселенная параллельная. Итак, что же он делает?
Нет, он не «дрочит на эпоху», в чем его упрекают некоторые наши музкритики с некоторым дворовым авторитетом, — да это и невозможно, эпох он трогает в этой книжке штук пять, с 1950-х годов начиная). Он бьет карту Москвы на квадраты и пытается рассказать историю каждого значимого для него района в динамике. Это немалый плюс, хотя получается и по необходимости отрывочно, потому что он черпает материал, в основном, из интервью выживших участников событий, а про свойства человеческой памяти мы все знаем. Но тот материал, который он систематизирует, конечно, уникален: есть ощущение, что многих анекдотов вы просто нигде больше не прочтете. На топографию накладываются матрицы реалий (студии, рестораны, тусовки, площадки и пр.). Так что с точки зрения познавательности (если делать скидку на его субъективность отбора информации и персонажей) в книжке все хорошо.
Теперь что нехорошо. Написана она достаточно квадратно, иногда автора уводит в «хюдожественность» в духе союза советских писателей, и рок-н-ролльного куража в тексте не чувствуется ну вот совершенно. Опечаток немного, но они достаточно позорные (вроде «Джимми» Хендрикса), фактуру я, конечно, проверить не могу и уповаю на добросовестность автора, но вот такая, к примеру, частность настораживает: дырки в углах конвертов привозимых пластинок колупала отнюдь не мифическая «канадская таможня», как нас уверяет автор (стр. 177) — их дыроколом ковыряли многие продавцы секондхендов (сам видел в Штатах и Англии) и вешали сданный им на реализацию винил гроздьями или просто пропускали через них шнурок, чтобы из ларей не воровали. В общем, «редакток» (sic) М.Р. Вервальд и корректор О.А. Левина издательства «Центрполиграф» поработали вполне в традициях этого издательства. А, ну и адовешее оформление, конечно.
Но это внешнее. Лично у меня проблема была во внутреннем (что, повторю, не отменяет ценности и интересности этой книжки). Квадратность подхода Марочкина мне видится в том, что он как бы оппортунистически примиряет советский андерграунд с советской же системой, а это штука довольно зыбкая и скорее вкусовая и эстетическая, нежели даже идеологическая. Он всячески подчеркивает связи андерграунда с официозом, филармонической и кабацкой составляющими советской культуры, разнообразным «дном», и вполне возможно, конечно, что «нормализуя» и «банализируя» культурный процесс, он прав — в конечном итоге, чистого и идеального, перпендикулярного протестного драйва в русском роке было не так уж много: всегда примешивалась коммерция, популярность (либо ее отсутствие) и связанные с этим киксы творческих порывов. Иными словами, всегда мешали поклонники и слушатели. И я, заматеревший в своем юношеском идеализме, с этим примириться никак не могу, так что дело, видимо, во мне. Так что Марочкин представляет картину, которая мне не нравится, но тут дело, видимо, во мне: мы же все на этой территории выросли, никуда не деться, а попыток вписать советский андерграунд в мировые парадигмы до сих пор были обречены и ни одной удачной я не знаю. Щеки т.е. можно раздувать сколько угодно, но совок всегда был «резервацией здесь». Ее-то Марочкин и описывает.
И еще: Марочкин вполне имеет право на свою систему координат, но для меня его «рубеж отсечки» пролегает несколько не там: когда в нашем восприятии происходила «художественная смерть» того или иного артиста, для автора «Москвы рок-н-ролльной» это «начало долгой и счастливой жизни» (литовка, одобрение властей, рок-лаборатория, уход на филармонические пажити). Т.е. по внешним признакам музыка-то, может, и оставалась, но рок-н-ролл в ней заканчивался, и дело тут даже не в идейном протесте. Рок-н-ролл — это ж не только определенные последовательности аккордов, костюмы и телодвижения, правда? Вот этого неизъяснимого «качества» (в смысле Пёрсига) в книге Марочкина, на мой взгляд, и маловато.
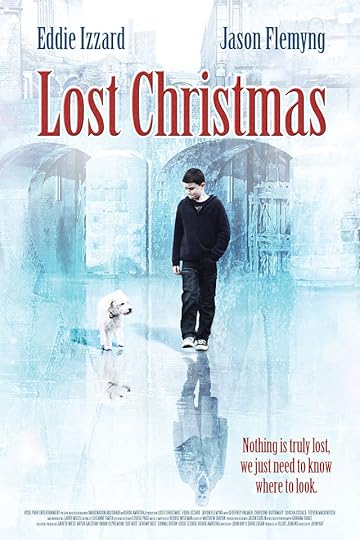
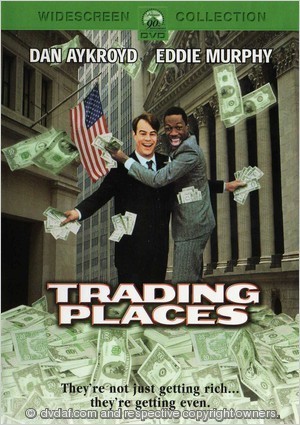
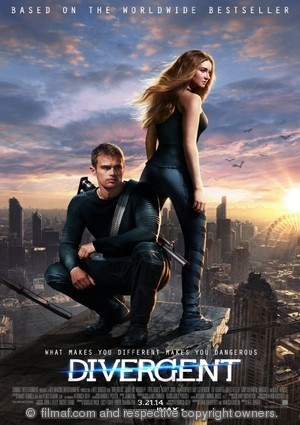
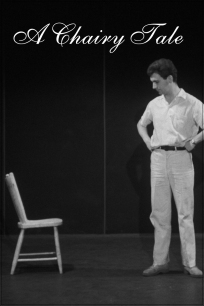
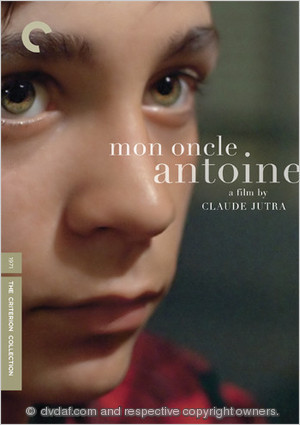
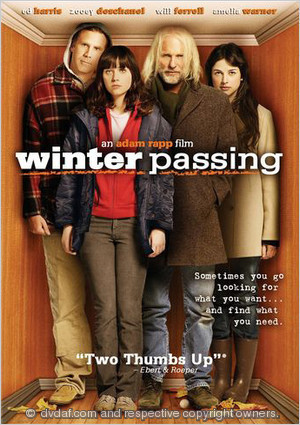
Filed under: just so stories




