про чтение + some pyncholalia
вы удивитесь - мы сами удивляемся, - но в чтении за последние месяцы как-то столпились познавательные и развлекательные книжки. т.е. удивительно то, что удается что-то читать несмотря на жару
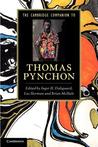 Cambridge Companion To Thomas Pynchon
by Inger H. Dalsgaard
Cambridge Companion To Thomas Pynchon
by Inger H. Dalsgaard
My rating: 4 of 5 stars
общий вывод по этой конкретной книжке - к 2012 году ничего нового или принципиально иного пинчоноведы о любимом авторе сказать не могут, хотя подходы кодифицировались, устоялись и, в целом, стали несколько взвешеннее и спокойнее. но это хороший школьный учебник пинчона - автор объясняется нам с большинства сторон вполне внятно и доходчиво, но, понятно, далеко не исчерпывающе. вплоть до финальной главы ханьо беррессема с обманчивым названием "как читать пинчона", где исследователь пускается в общие рассуждения скорее о природе человеческого восприятия, познания и выживания вообще. а как читать пинчона, гад, не объясняет...
 Thomas Pynchon and the Dark Passages of History
by David Cowart
Thomas Pynchon and the Dark Passages of History
by David Cowart
My rating: 4 of 5 stars
"Томас Пинчон и темные норы истории" написана внятно и вполне увлекательно для суховатого по большей части пинчоноведения, а под конец - особенно в том, что касается AtD, - и до того страстно, что начинаешь любить заодно и автора. хорошее популярное и доступное чтение для тех, кто уже прочел всего ТРП
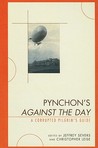 Pynchon's Against the Day: A Corrupted Pilgrim's Guide
by Jeffrey Severs
Pynchon's Against the Day: A Corrupted Pilgrim's Guide
by Jeffrey Severs
My rating: 5 of 5 stars
отличное отпускное чтение. по этому сборнику очень хорошо видно, насколько лучше за последние 40 лет пинчоноведы стали осмыслять труды любимого автора - тоньше, точнее. да их просто стало гораздо интереснее читать
 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
by Mark Twain
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
by Mark Twain
My rating: 5 of 5 stars
чуть более витиеватая версия по сравнению с примитивизированными старыми переводами дарузес, которая скорее пересказывала марка твена для рабоче-крестьянских детей. я бы решил, что версия сережи ильина к духу и букве подлинника ближе. однозначно рекомендуется
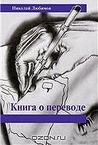 Книга о переводе
by Николай Любимов
Книга о переводе
by Николай Любимов
My rating: 4 of 5 stars
Книжица начинается как подстрекательство нестойких духом переводчиков к оживляжу, а далее стиль ее колеблется от бронзовой банальности к кучерявой умильности в мемуарной части, и, в общем, уже непонятно, для кого все это может быть откровением. Вторая часть - некий краткий тезаурус по темам ("в копилку переводчику"), который портит, например, то, что половина выражений, связанных с выражениями (лица), имеет в себе слово "выражение". В общем, начинающим полезно, видимо, а иные смотрят в словари. Или не смотрят. Короче говоря, лучшее доказательство, что переводчику (даже такому, как Любимов) полезнее всего сидеть и переводить, а суесловных мемуаров и прочих книг - не писать.
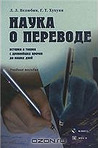 Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней
by Лев Нелюбин
Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней
by Лев Нелюбин
My rating: 2 of 5 stars
давно мы не брали в руки учебников... этот не стал исключением - как большинство учебников, он отвратительно написан, хотя как краткая обзорная экскурсия по переводу мог быть вполне полезен. вопрос в пустоту, я понимаю, но почему такой скверный, скудный и убогий стиль изложения стал академической нормой? кто это вообще так придумал, я вас спрашиваю? ну и из общих соображений - для издания, претендующего на "солидность" и "учебность", он довольно противно издан, потому что корректор на этой книжке явно спал, ну а редактора не было, судя по всему, вообще. иначе как объяснить, в частности, такие милые опечатки, как "Суинбери" (поэт такой был, обычно называется "Суинберном", и "Михаил Кузьмин" (вместо, понятно, Кузмина).
по содержательной части. понятно, что медвежью услугу авторам в очередной раз оказывает вульгарно-социалистическое деление мировой истории вопроса на заграничную и посконно-домотканую. сцепки между всем миром и Русью слабы и неубедительны, поэтому оказываются большим сюрпризом для читателя: надо же, русские переводчики с Гёте переписывались. Достоевский был знаком с Диккенсом... в общем, Россия из своего гетто не выходила, судя по представлениям автором. во всемирной части режет глаз зияющее отсутствие Вальтера Беньямина (его явно никогда не существовало), а теории заканчиваются примерно серединой семидесятых годов (с удивительными упоминаниями двух вполне случайных книжек 80-90-х, в частности - Роберта Блая, и на том спасибо) и теориями Найды, которые, что называется, ни в борщ, ни в красную армию, ибо практического значения они не имеют.
с русской частью все вроде бы солиднее, но опять же - налицо фактор устарелости, потому что основная часть текста заканчивается ахинеей им. тов. Федорова, а заключение - перечень деривативов его т.н. "лингвистической теории перевода", среди коих, разумеется, звездное место занимает "военная теория перевода". ах, душечки, ну неужели без пыльных академиков нельзя было обойтись, которые несут свою околесицу с умным видом, тщась доказать правомерность своих ученых званий? они же ничего нового не говорят-то, все то же начетничество и пустое теоретизирование, имеющее примерно такое же значение, как основы картографии для сороконожки. обзор "влияния пения на зрение" заканчивается кратким очерком истории машинного перевода - это без смеха читать уже невозможно, потому что представления авторов о компьютерной эпохе заканчиваются примерно на изобретении арифмометра. хотя полезно было узнать, что внутре у всех советских автоматических переводчиков была неонка. ну и да - авторы впадают в ту же восторженную ересь, зачастую подменяя понятия и утверждая на голубом глазу, что тот или иной перевод советского времени был гениален, только и исключительно потому, что переводил тот или иной великий поэт. читали мы эти переводы, ага, и у нас по-прежнему к ним вопросы. значимая часть русско-советского обзора заканчивается на Кашкине - он-то, судя по всему, и был последним вменяемым и нормальным человеком в этой стране, который говорил об этом роде занятий по делу.
 The Art of Sinking in Poetry
by Alexander Pope
The Art of Sinking in Poetry
by Alexander Pope
My rating: 4 of 5 stars
скверная поэзия всегда была отличным желчегонным средством, просто во времена Поупа говорить о ней еще не приелось. в наши дни тут этим иногда занимается Митя Кузьмин (делает ли его это нашим Александром Поупом?). я бы рекомендовал читать "Пери Батос" всем поэтам, собравшимся где-либо публиковаться, ибо не могу же я запретить им писать
 Alice in Many Tongues, the Translations of Alice in Wonderland
by Warren Weaver
Alice in Many Tongues, the Translations of Alice in Wonderland
by Warren Weaver
My rating: 3 of 5 stars
Книжица американского пионера машинного перевода и увлеченного коллекционера-алисоведа Уивера, которой столько же лет, сколько мне, вполне занимательна, но имеет, боюсь, только археологическое значение. Во-первых, Уивер - собиратель, поэтому все, что касается изданий Алисы, изданий первых ее переводов и - особенно - попыток анализа того, что с текстом сделали разные переводчики, - только описательно. Мило, но едва ли пища для ума.
Самое ценное в ней, пожалуй, - довольно подробное воспроизведение значимых кусков переписки Кэрролла с издателями насчет продвижения Алисы на иностранных рынках: скольлько автор получал (в среднем 17 фунтов с 1000 экз.), как хотел, чтобы цены были общедоступны (2 талера в Германии - дорого), как контролировал качество переводов и издания (дотошно) и как санкционировал подстановки текста (переводчики были вольны пародировать стишки и песенки, существовавшие в их культурах).
Переводы на русский едва затронуты, и очерк их изобилует понятными неточностями: писалась книжка до эпохи исторического материализма, т.е. до выхода перевода Демуровой (который появился в Болгарии только в 1966-м) и прочих советских переводчиков, и каких-либо данных получить от советских бюрократов Уивер не мог (описание его отношений с мадам Багровой из Ленинки поднимается до вершин античной драмы: в Ленинке его натурально послали на идеологический нахуй, когда он спросил про первый русский перевод, потому что первое русское издание, как мы узнаем из других источников (послесловия к академической Алисе 1991 года издания, например), хранилось в Ленинграде, в биб-ке Салтыкова-Щедрина; и т.д.). В общем, Уивер работал с переводом Набокова, про который нам много чего известно, в частности - что он сосет большое время (да, и Уивер в начале 60-х явно имел очень малое представление о том, кто такой Набоков; кто такой Шандор Вёреш, он не знал вообще).
Его попытки реконструкции переводов тоже слабоваты - он подошел к этому как упорный любитель, ну и без знания, в частности, русского языка, понаписал глупостей в духе известного анекдота про книгу о летчиках ("Ас Пушкин"), написанную каким-то киргизом по фамилии Учпедгиз. В диких временах, в общем, довелось ему жить, в середине ХХ века...
* * *
ну и да, любимая навсегда песня - гибрид "Summertime" и "Шуба-дуба блюза". вчера во Дворце на Яузе (феерическое место) они ее не играли (да и несколько видоизменились по сравнению с этим видео), но вот
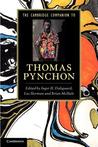 Cambridge Companion To Thomas Pynchon
by Inger H. Dalsgaard
Cambridge Companion To Thomas Pynchon
by Inger H. DalsgaardMy rating: 4 of 5 stars
общий вывод по этой конкретной книжке - к 2012 году ничего нового или принципиально иного пинчоноведы о любимом авторе сказать не могут, хотя подходы кодифицировались, устоялись и, в целом, стали несколько взвешеннее и спокойнее. но это хороший школьный учебник пинчона - автор объясняется нам с большинства сторон вполне внятно и доходчиво, но, понятно, далеко не исчерпывающе. вплоть до финальной главы ханьо беррессема с обманчивым названием "как читать пинчона", где исследователь пускается в общие рассуждения скорее о природе человеческого восприятия, познания и выживания вообще. а как читать пинчона, гад, не объясняет...
 Thomas Pynchon and the Dark Passages of History
by David Cowart
Thomas Pynchon and the Dark Passages of History
by David CowartMy rating: 4 of 5 stars
"Томас Пинчон и темные норы истории" написана внятно и вполне увлекательно для суховатого по большей части пинчоноведения, а под конец - особенно в том, что касается AtD, - и до того страстно, что начинаешь любить заодно и автора. хорошее популярное и доступное чтение для тех, кто уже прочел всего ТРП
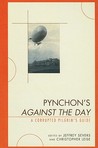 Pynchon's Against the Day: A Corrupted Pilgrim's Guide
by Jeffrey Severs
Pynchon's Against the Day: A Corrupted Pilgrim's Guide
by Jeffrey SeversMy rating: 5 of 5 stars
отличное отпускное чтение. по этому сборнику очень хорошо видно, насколько лучше за последние 40 лет пинчоноведы стали осмыслять труды любимого автора - тоньше, точнее. да их просто стало гораздо интереснее читать
 Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
by Mark Twain
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
by Mark TwainMy rating: 5 of 5 stars
чуть более витиеватая версия по сравнению с примитивизированными старыми переводами дарузес, которая скорее пересказывала марка твена для рабоче-крестьянских детей. я бы решил, что версия сережи ильина к духу и букве подлинника ближе. однозначно рекомендуется
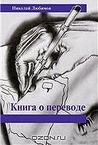 Книга о переводе
by Николай Любимов
Книга о переводе
by Николай ЛюбимовMy rating: 4 of 5 stars
Книжица начинается как подстрекательство нестойких духом переводчиков к оживляжу, а далее стиль ее колеблется от бронзовой банальности к кучерявой умильности в мемуарной части, и, в общем, уже непонятно, для кого все это может быть откровением. Вторая часть - некий краткий тезаурус по темам ("в копилку переводчику"), который портит, например, то, что половина выражений, связанных с выражениями (лица), имеет в себе слово "выражение". В общем, начинающим полезно, видимо, а иные смотрят в словари. Или не смотрят. Короче говоря, лучшее доказательство, что переводчику (даже такому, как Любимов) полезнее всего сидеть и переводить, а суесловных мемуаров и прочих книг - не писать.
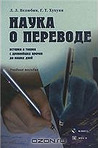 Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней
by Лев Нелюбин
Наука о переводе. История и теория с древнейших времен до наших дней
by Лев НелюбинMy rating: 2 of 5 stars
давно мы не брали в руки учебников... этот не стал исключением - как большинство учебников, он отвратительно написан, хотя как краткая обзорная экскурсия по переводу мог быть вполне полезен. вопрос в пустоту, я понимаю, но почему такой скверный, скудный и убогий стиль изложения стал академической нормой? кто это вообще так придумал, я вас спрашиваю? ну и из общих соображений - для издания, претендующего на "солидность" и "учебность", он довольно противно издан, потому что корректор на этой книжке явно спал, ну а редактора не было, судя по всему, вообще. иначе как объяснить, в частности, такие милые опечатки, как "Суинбери" (поэт такой был, обычно называется "Суинберном", и "Михаил Кузьмин" (вместо, понятно, Кузмина).
по содержательной части. понятно, что медвежью услугу авторам в очередной раз оказывает вульгарно-социалистическое деление мировой истории вопроса на заграничную и посконно-домотканую. сцепки между всем миром и Русью слабы и неубедительны, поэтому оказываются большим сюрпризом для читателя: надо же, русские переводчики с Гёте переписывались. Достоевский был знаком с Диккенсом... в общем, Россия из своего гетто не выходила, судя по представлениям автором. во всемирной части режет глаз зияющее отсутствие Вальтера Беньямина (его явно никогда не существовало), а теории заканчиваются примерно серединой семидесятых годов (с удивительными упоминаниями двух вполне случайных книжек 80-90-х, в частности - Роберта Блая, и на том спасибо) и теориями Найды, которые, что называется, ни в борщ, ни в красную армию, ибо практического значения они не имеют.
с русской частью все вроде бы солиднее, но опять же - налицо фактор устарелости, потому что основная часть текста заканчивается ахинеей им. тов. Федорова, а заключение - перечень деривативов его т.н. "лингвистической теории перевода", среди коих, разумеется, звездное место занимает "военная теория перевода". ах, душечки, ну неужели без пыльных академиков нельзя было обойтись, которые несут свою околесицу с умным видом, тщась доказать правомерность своих ученых званий? они же ничего нового не говорят-то, все то же начетничество и пустое теоретизирование, имеющее примерно такое же значение, как основы картографии для сороконожки. обзор "влияния пения на зрение" заканчивается кратким очерком истории машинного перевода - это без смеха читать уже невозможно, потому что представления авторов о компьютерной эпохе заканчиваются примерно на изобретении арифмометра. хотя полезно было узнать, что внутре у всех советских автоматических переводчиков была неонка. ну и да - авторы впадают в ту же восторженную ересь, зачастую подменяя понятия и утверждая на голубом глазу, что тот или иной перевод советского времени был гениален, только и исключительно потому, что переводил тот или иной великий поэт. читали мы эти переводы, ага, и у нас по-прежнему к ним вопросы. значимая часть русско-советского обзора заканчивается на Кашкине - он-то, судя по всему, и был последним вменяемым и нормальным человеком в этой стране, который говорил об этом роде занятий по делу.
 The Art of Sinking in Poetry
by Alexander Pope
The Art of Sinking in Poetry
by Alexander PopeMy rating: 4 of 5 stars
скверная поэзия всегда была отличным желчегонным средством, просто во времена Поупа говорить о ней еще не приелось. в наши дни тут этим иногда занимается Митя Кузьмин (делает ли его это нашим Александром Поупом?). я бы рекомендовал читать "Пери Батос" всем поэтам, собравшимся где-либо публиковаться, ибо не могу же я запретить им писать
 Alice in Many Tongues, the Translations of Alice in Wonderland
by Warren Weaver
Alice in Many Tongues, the Translations of Alice in Wonderland
by Warren WeaverMy rating: 3 of 5 stars
Книжица американского пионера машинного перевода и увлеченного коллекционера-алисоведа Уивера, которой столько же лет, сколько мне, вполне занимательна, но имеет, боюсь, только археологическое значение. Во-первых, Уивер - собиратель, поэтому все, что касается изданий Алисы, изданий первых ее переводов и - особенно - попыток анализа того, что с текстом сделали разные переводчики, - только описательно. Мило, но едва ли пища для ума.
Самое ценное в ней, пожалуй, - довольно подробное воспроизведение значимых кусков переписки Кэрролла с издателями насчет продвижения Алисы на иностранных рынках: скольлько автор получал (в среднем 17 фунтов с 1000 экз.), как хотел, чтобы цены были общедоступны (2 талера в Германии - дорого), как контролировал качество переводов и издания (дотошно) и как санкционировал подстановки текста (переводчики были вольны пародировать стишки и песенки, существовавшие в их культурах).
Переводы на русский едва затронуты, и очерк их изобилует понятными неточностями: писалась книжка до эпохи исторического материализма, т.е. до выхода перевода Демуровой (который появился в Болгарии только в 1966-м) и прочих советских переводчиков, и каких-либо данных получить от советских бюрократов Уивер не мог (описание его отношений с мадам Багровой из Ленинки поднимается до вершин античной драмы: в Ленинке его натурально послали на идеологический нахуй, когда он спросил про первый русский перевод, потому что первое русское издание, как мы узнаем из других источников (послесловия к академической Алисе 1991 года издания, например), хранилось в Ленинграде, в биб-ке Салтыкова-Щедрина; и т.д.). В общем, Уивер работал с переводом Набокова, про который нам много чего известно, в частности - что он сосет большое время (да, и Уивер в начале 60-х явно имел очень малое представление о том, кто такой Набоков; кто такой Шандор Вёреш, он не знал вообще).
Его попытки реконструкции переводов тоже слабоваты - он подошел к этому как упорный любитель, ну и без знания, в частности, русского языка, понаписал глупостей в духе известного анекдота про книгу о летчиках ("Ас Пушкин"), написанную каким-то киргизом по фамилии Учпедгиз. В диких временах, в общем, довелось ему жить, в середине ХХ века...
* * *
ну и да, любимая навсегда песня - гибрид "Summertime" и "Шуба-дуба блюза". вчера во Дворце на Яузе (феерическое место) они ее не играли (да и несколько видоизменились по сравнению с этим видео), но вот
Published on July 12, 2012 00:23
No comments have been added yet.



