some reading accomplished

Путешествие в Элевсин by Victor Pelevin
My rating: 4 of 5 stars
Опять мы вместе с народом в едином порыве осваиваем библиотеку “культурных кодов”.
Хотя “швыряние костей” уже утомляет, все эти gratuitous фразочки и уличные мемы, включая цытатки из Черномырдина. Все же лучше ВОПль был, когда сам сочинял шутки и пускал их в народ, а не повторял услышанное, слишком уж это дурновкусие.
Редакционные проповеди теперь подаются под соусом греческой философии, но от этого они не становятся менее банальными. С другой стороны, повторение общеизвестного никогда никому особо не вредило, только не нужно при этом так щеки надувать. Проповеди списаны из пособий по “майндфулнесс”, только с сильным иудео-христианским креном в дуальность.
Беда даже не в том, что все персонажи в этой книге говорят одинаково, а в том, что у него персонажи всех книг говорят одинаково (с редчайшими исключениями). Допустим, это можно списать на симуляцию – на нее, похоже, тут многое списать можно… но не нужно – написано все по-прежнему скверно, а сюжетные ходы и подавно не сочинены, а рециркулированы. Опять случайные мусорные слова и бессмысленные канцелярские клише.
“Ультимативный выразитель”
“Жарить комаринского”
“хрюкающий храп” и “окающий говорок”
“согласно киваем головой” и “возвращаемся назад”
VSOP у него вдруг становится ВЗОПом – “вери зьюпириор”, что ли?
В Древнем Риме, где все боле-мене достоверно, пусть это и эмуляция, носят ботинки, а также присутствуют форты
Вавилонский жрец, становящийся римлянином, вдруг оказывается эллином
“Попробуй совокупиться с достоинством”
“салат со свежими оливками” ахаха
“необходимая для жертвы утварь” (это для быка)
Ну и вот это вот: “– Да, – кивнул Порфирий.”
“Я погрузился в высочайшие буквы.”
“на глубоком подвале”
Но в целом это несколько лучше предыдущего, да и комментарий к текущей войне и пизде, накрывшей т.н. “русскую интеллигенцию”, изложенный вполне эзоповым языком и размазанный по всей книжке, вполне засчитывается. Ну и про рыбу-боцмана с этими маршрутами “особого русского пути” смешно. …ну а древнеримская рецензия на “Пинк Флойд в Помпеях” – просто очень неплохой текст сам по себе, торчит тут зеленой мозолью.
Но вот что примечательно – уже который текст у ВОПля эксплуатирует только жанр диалога между условным учителем и условным учеником. Сам по себе достаточно традиционный прием, но нет ли тут гомоэротического подтекста? Уж очень это все как-то нарочито, пусть даже и мета-роман.
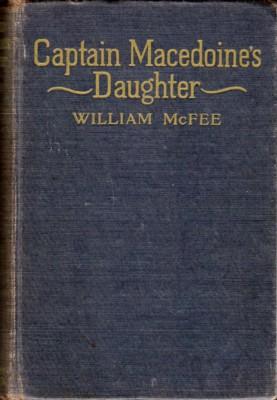
Captain Macedoine’s Daughter by William McFee
My rating: 4 of 5 stars
Макфи был занимательный чувак – английский писатель-маринист канадского происхождения, ставший американцем, а кроме того – судовой механик, доросший до деда, а после окончательно ставший писателем. Ну и лицо это, конечно, нужно видеть.
Сначала это просто морские байки, изложенные в уважаемом жанре “(псевдо)рассказа на палубе” вопреки всяким темпоральным ограничениям 1001 ночи: ночь рассказа просто не кончается. Постепенно выясняется, что “капитан Маседуан” из названия – это жуликоватый девелопер с массой проектов по развитию Салоник, еще “турецкого города”: от пивоварни до флота и железной дороги, хотя “заработать на Македонии” в то время было затеей довольно нелепой. Он, вместе с тем, обаятелен и в Салониках уважаем. Это такой типаж “грека Зорбы”, который будет написан и опубликован лишь через 20 с лишним лет.
Титулярная капитанская дочка его выступает своеобразным макгаффином и не сказать что интересный или оригинальный образ вообще, хоть и злободневный, ибо октарунка, но при этом прожженная золотоискательница в патриархально-расистскую эпоху начала 20 века. В отличие от матери и дочерей Сарафовых – это как раз оригинальный коллективный образ свободных и раскрепощенных южнославянских людей неведомой национальности. Вообще женская линия в романе – это разнообразные поиски (или непоиски) свободы, но о системе женских образов в нем пусть рассуждают неофеминисты: их она тригернет наверняка, тем паче что в устах патриархально-шовинистического автора-рассказчика все это выглядит вполне мудовыми рыданьями.
Впрочем, поисками свободы здесь так или иначе занимаются все, и средоточием свободы и ее символом выступают Салоники – и это не странно. Вот показательный диалог:
‘”What do you understand by freedom?’ I demanded… ‘There are a good many answers to that question,’ he said at length, ‘but I should say, in my case, that it means deliverance from the Anglo-Saxon’s infernal ideas of morality.’
Как видим, традиция соблюдена, хотя автор свободу явно не одобряет и не считает, что жителей Салоник и гражданн Османской империи нужно освобождать, – он же британец, он не может быть против имперского блага и цивилизационной миссии вообще. Следует отметить, что салоникские сцены четко датированы самими событиями: это 25-27 октября 1912 г. Сам капитан Маседуан (второй собеседник) как бы занят перевозкой оружия и боеприпасов для греческих освободителей. Салоникам быть частью Османской империи осталось недолго, до войны – считанные часы.
Где-то с середины становится понятно, почему роман числится в местном городском литературном каноне. Появляются чисто средиземноморские и салоникийские типажи, вроде того же девелопера, или еврейского магната Кинаитского, чьей содержанкой становится капитанская дочка (он, кстати, живет, похоже, в одной из вилл на нынешней Ольге), или “международного журналиста” (на самом деле – агента греческого влияния, выведенного не весьма сочувственно), пишущего свои корреспонденции прямо в кафе, где выступает эллинский агитатор с серебряной звездой, или испанского еврея доктора Садуру… И до чего ж приятно следить за перемещениями персонажа по городу и понимать, где все это происходит.
Взять, например, приключения улицы Палеолога. Наш герой выходит из порта, доходит до площади, “иронически” называемой площадью Свободы, что-то пьет там в кафе “Одеон” на углу, а потом идет к вокзалу. Где-то рядом нанимает извозчика – ему надо попасть на улицу Палеолога. Извозчик не знает, где это, что немудрено: в Салониках и сейчас примерно 4 улицы с таким названием, и все в разных местах. Но они едут – обратно на набережную, где спрашивают дорогу у прогуливающихся девушек, потом мимо Белой башни и на нынешний проспект Царицы Ольги (“прочь от набережной”). Немного погодя сворачивают на большую дорогу в сопки, и где-то там обретают искомое. Непонятно, сколько они ехали по Ольге, но первая большая перпендикулярная дорога – это ул. 28го октября, а значит гипотетическая ул. Палеолога находилась где-то в Като Тумбе: известно, что дом там “смотрит на залив”, поэтому должен быть где-то на склоне. А это, ну, примерно еврейский район. В конце эпизода герой спускается прямо к заливу и обретает там лодочную пристань – на месте нынешнего яхт-клуба она существовала традиционно, насколько я знаю. Но улицы Палеолога на этом траверзе на современных картах я не обрел. Дальше еще интереснее.
На другой день наш герой сходит в порту на берег и отправляется с сослуживцем на рынок, предварительно полюбовавшись рассветом в округе – панорамой от того, что он считает Халкидиками, через устье Вардара и к Олимпу. Правда, видать, для красного словца называет Хортиатис Афоном (хотя Афона, как и Халкидиков из порта не видать). На рынке (судя по всему – Капани, куда они приходят через Лададику) он встречается с девушкой, и та везет его к капитанской дочке – по Эгнатии, а потом вверх по узким и крутым колоритным улочкам через Ано Поли к крепости… судя по всему, как раз на настоящую улицу Палеолога, которая действительно есть возле Эптапиргио (и оттуда залив вдали действительно виден). Не очень понятно, зачем автору понадобилось так запутывать следы.
Но самое интересное начинается в конце. Наши герои отправляются на пикник, похоже, в Терми под дальнюю канонаду – и пока они там отдыхают, османские войска уходят в Монастир, а в город входят греческие революционеры-освободители, и наши герои оказываются в самой гуще боев оставшегося гарнизона с повстанцами, кому капитан Маседуан и поставлял боеприпасы. Ну и, в общем, все идет не так и заканчивается довольно скверно…
Комитет единения и прогресса у него называется Партией свободы и прогресса и тоже изображается вполне ядовито, хотя я так и не понял, кого он выводит в роли неприятного “машиниста”, руководящего местным отделением этой партии младотурков. Там все были нетехнической интеллигенцией, насколько я помню.
…Второй знакомый и любимый город, и тоже перекресток миров и наслоение культур, что здесь упоминается, – Нью-Орлинз, и вот тут есть странность: улица Чопитулас, например, никогда и ни при каких обстоятельствах не смотрела и не смотрит на озеро, она идет вдоль берега Миссиссиппи, и заканчивается примерно там, где, в принципе, можно увидеть “закат над водой”, но вода эта – опять-таки не озеро. Хотя про это нам рассказывает капитан Маседуан, а он может и соврать.

Турдейская Манон Леско by Всеволод Петров
My rating: 5 of 5 stars
Решил вот почитать чего-нибудь развлекательного, отдохнуть от трудов, так сказать. А там натуральный Бекетт в декорациях Юрия Германа… Хотя критики вот говорят, что Веры Пановой, но это никакого значения не имеет, потому что Петров свой “автофикшн”, как сейчас выражаются, успел записать раньше их всех.
Но роман – без обычного совецкого вранья, что редкость для тех времен: в нем просто говорит человек в нечеловеческих обстоятельствах. От нечего делать (никто в этом эшелоне ничем не занят, их везут, как скот, куда-то – он только называется “санитарным поездом”) придумывает буквально на пустом месте, из ничего влюбленность, “дачный роман”, как его называет здешний голос разума, – полную литературщины самонаведенную галлюцинацию, призванную спасать от кошмара войны. Вот эта попытка сберечь в себе человеческое от войны и есть, наверное, сейчас самое главное (что там из текста вычитывали раньше, уже не важно – вернее, важно, конечно, только литературоведам и историкам, а мы не они). То есть, только война придает ценности этой донельзя банальной – обывательской – истории.
И весь текст и впрямь очень безыскусен и прозрачен, а косяков в нем мало (“мимоходом заходят”, такое вот). Маленький шедевр обывательского романа. Так что цель достигнута.
Воспоминания хороши, насколько могут быть хороши воспоминания. Потянуло перечитать Кузмина и Белого. Ну а критики и искусствоведы, в общем, всегда торговали воздухом, только раньше они при этом были лучше образованы.
А в сопроводительном тексте Юрьева есть действительно “важное”:
“…как только участник «другой культуры» начинал воспринимать советское культурное окружение как реальное, а свое собственное как «ненастоящее», «игрушечное» – он выбывал из одной культуры и полностью прибывал в другую, пополняя ряды «перерожденных». Этот механизм действителен для 20–30-х годов, действителен он и для 60–80-х, когда советская печатная литература и совписовская жизнь на значительную часть пополнялись «повзрослевшими и поумневшими» беглецами из неофициальной культуры. Осуждать их трудно, но в этом механизме коренится и самоуничтожение неофициальной литературы в конце 80-х – начале 90-х годов. Вместо сохранения собственных структур и институтов она отдалась иллюзии «соединения трех ветвей русской литературы» (третья ветвь – зарубежная русская литература того времени). И потеряла всё.”
Но на этом “важное” и кончается – дальше Юрьев начинает нести обычную имперскую ахинею о “культурном русском народе”, который де совокупно лучше совецких чудовищ, которые довели его до такой жизни. Теперь-то мы прекрасно видим и обоняем, насколько протухло все это “культурное” говно, а т.н. “русский народ” если не всегда был таким тухлым, то уроки совецких чудовищ усвоил хорошо. И поневоле начинаешь думать, что никакие правильные книжки, никакой Гёте или любовь в 18му веку ничего хорошего бы не сделали в итоге для такого персонажа в наши дни и не гарантировали бы, что он не сойдет с ума вместе со сворой дорвавшихся до власти мелких подонков и тоже не станет людоедом. Читая совецкую литературу сейчас, невозможно уже не задаваться вопросом, будет ли тот или иной персонаж гипотетически за войну и истребление украинцев или против, за арабов он или за евреев. Ответы тут скорее неутешительны.

A Ballet of Lepers: A Novel and Stories by Leonard Cohen
My rating: 5 of 5 stars
Голос Коэна – в каждой фразе, эту интонацию невозможно эмулировать. При том, что это ранние его тексты, преимущественно до 1960 года, а повесть была и вообще до “Любимой игры”. Но ритмизованная проза уже совершенно безошибочно мастерская и его.
Spring was definitely on the city. There seemed to be people at every corner, just lingering. Young men, with greased hair and open shirts, stood against walls and plotted fantastic orgies with every passing female. Old men clustered around public benches and set up new governments
Удивительным образом роман между героем и героиней тут тоже, как и у Петрова в “Турдейской”, насквозь литературен, но зеркален: слова и образы генерирует Мэрилин, героя-рассказчика тянет к простому бытию. А функцию войны выполняет дедушка, который “освобождает” героя своей тягой к насилию (прочесть две эти повести подряд оказалось интересно, так совпало). Ну и обычные неоднозначные мучительные отношения всех со всеми, как у Коэна везде – и в песнях, и в стихах, и в романах.
Ну и совсем волшебные рассказы – вполне автобиографические, но с отзвуками многого – и Карвера, и Джойса, и Бартелми, и кого не (ну и немного Кафки там растворено везде, куда ж без окаянного Кафки – особенно в рассказах про мистера Юмера-рифмуется-с-тумором):
All day, they carry their unwritten novels and unpainted pictures around in their heads.
И это в целом осколки и грани жизни совершенно особого куска жизни и культуры во времени – золотая джазовая творческая молодежь провинциального Монреалья в 50е – средоточия совершенно иной для нас вселенной. И да, чудесные рассказы о детстве, такие бы надо в любую школьную хрестоматию.
И прекрасный греческий рассказ о тусовке этаких международных постбитницких экспатов (“плавник” как он их называет) на Идре. А также рассказик (вернее набросок), в котором Коэн написал типа фантастику (на самом деле нет – это скорее еврейская притча), за что его русские любители, не знающие другой литературы, несомненно причислят к лику фантастов.

Gioconda by Nikos Kokantzis
My rating: 5 of 5 stars
Самая известная (автобиографическая) повесть Никоса Кокандзиса, салоникского психиатра и писателя. Многие издания по миру гордо несут на обложке известный автопортрет Зинаиды Серебряковой (с волосами и щеткой), хотя повесть – о детской любви мальчика-грека к одной еврейской девочке в Салониках во время оккупации. Этакая “Дикая собака динго”, только с неизбывно более трагическим концом. Постепенное наступление зла показано здесь хоть и кратко, но обостренно: все думали, что каждая новая мера нацистской оккупации против евреев “будет последней, что это человечески невозможно, даже шутили, даже сами евреи шутили, но потом оказывалось, что мера не последняя и на следующий день все забывали, что’ вчера было человечески невозможным”… и, конечно, известно, чем все закончилось. “Зло в его абсолютной форме” мы сейчас наблюдаем, конечно, в россии: и война, и оккупация, и цензура, и аресты неугодных и вольнодумцев, и награды убийцам и людоедам. Я бы решил, что в россии это зло даже поабсолютнее будет.
Кроме того, это попытка автора в тексте сохранить жизнь своей первой любви. Эта часть сюжета суммируется афористичной цитатой из Пинчона, конечно: “Они влюблены. Нахуй войну”.
На английский, что немаловажно, повесть переводил сам автор, который много лет проработал в Лондоне. Для меня также интересно было вычислить, где они жили, на это никаких прямых указаний нет. Где-то там, где были пустыри между домами, откуда одновременно просматривались азимуты и порта, и летного поля “на востоке” (в начале нынешней улицы Софули) (герои видят результаты союзной бомбардировки), но одновременно и откуда недалеко до моря. Возможно, где-то в Айя-Триаде.
ну и по этому случаю сегодня у нас концерт одной песни
я ее когда-то впервые услышал у Божественной Джоан
но вот это, наверное, ближе к оригинальному исполнению
это совсем эстрада, конечно
и вот хорошая старая версия
мужчины ее тоже поют, но реже
ну и в довершение банкета – Клод Франсуа (на которого лучше не смотреть) спел ее на стихи французского Онегина Гаджикасимова, и агнец превратился в маленького мальчика



