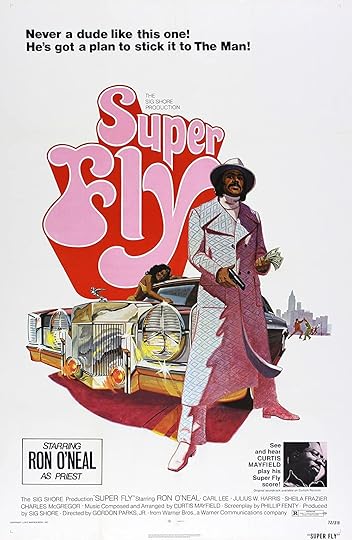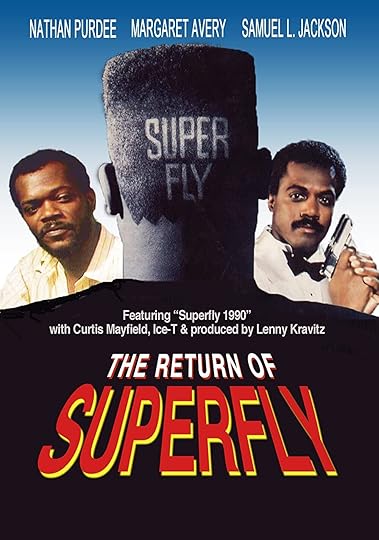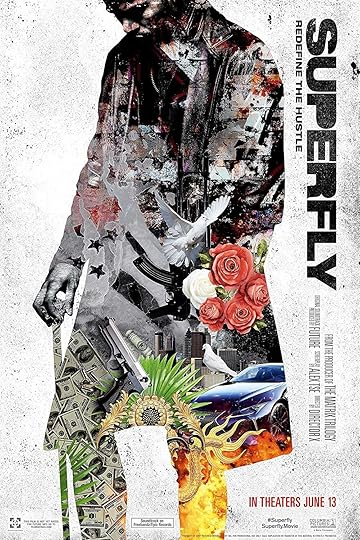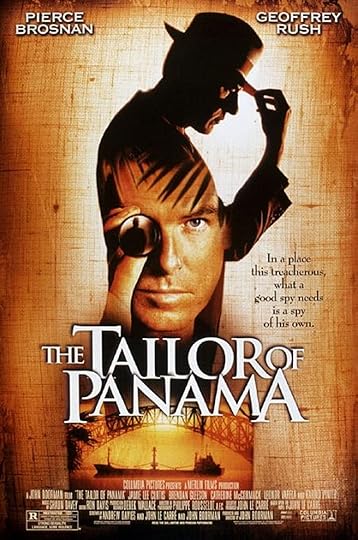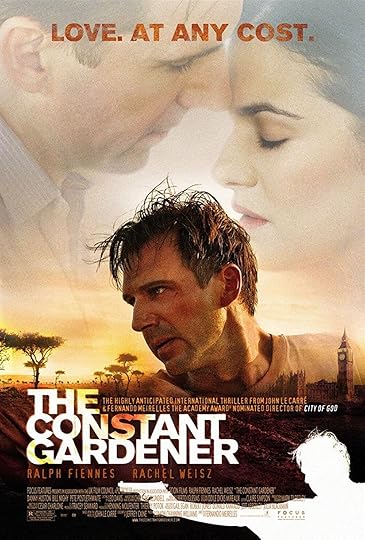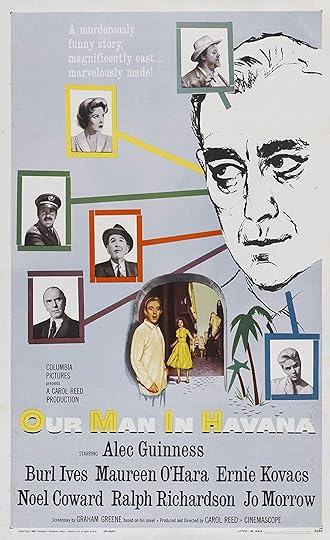a last glance back
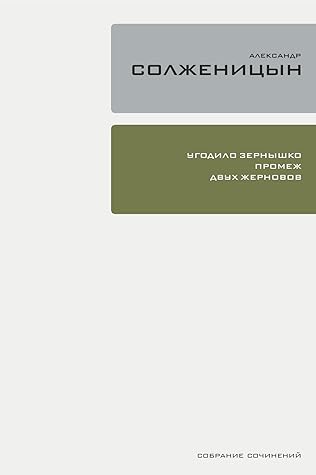
Угодило зёрнышко промеж двух жерновов: Очерки изгнания. Том 29 by Aleksandr Solzhenitsyn
My rating: 5 of 5 stars
Продолжение авторского эго-трипа, из которого яснее становится дегенерация его взглядов. Он, конечно, не личинка диктатора, скорее действительно самовлюбленный аятолла, и в этом томе бронзовение налицо.
…с самого начала становится ясно, что во внутридиссидентской полемике начала 70х прав-то оказался в итоге Сахаров, заточенный на общий гуманизм и цивилизационные ценности, а Солж со своей чуть ли не кишечной боязнью новой революции (буквально “не раскачивайте лодку, а то советскую крысу стошнит”) и православно-патриотической ебаниной натурально обосрался (исторический термин, не копрологический). Теперь уж мы видим, к чему привело “национально-нравственное развитие России”, на которое так уповал Солж. Насколько потемненным от вони церковно-гебистского ладана должно быть сознание, чтобы выдвинуть вот эту ахинею: “медленный, постепенный переход к демократии через авторитарность” (А??) Сахаров же еще в 1974 году предостерегал от этой солженицынщины, которая “может быть опасна”. Синявский тоже опасность русского национализма видел, хотя и от него Солж некрасиво отмахивался:
“Но новое русское националистическое движение с неофашистскими обертонами приобретает форму при участии Солженицына.”
Грохнуло же оно сильно после смертей всех участников дискуссии, так что теперь прекрасно видно, кто и в чем был прав. Еще более точен в 1979 году был Эткинд:
“«Восточная Европа», написал он, это звучит слишком хорошо как для самоварной, так и для сталинской России, верней говорить: «Западная Азия». Русские представления не изменились со времён генерала Дуракина (хороший, мол, типаж для русских). Недавние русские (это я) мечтают восстановить престол царей и византизм Третьего Рима… Русские аятоллы (это я) архаичнее иранских: они хотят даже не исламскую республику, но православную монархию (что, ясно, реакционнее). А вообще – религии только разъединяют человечество, соединяют же его нерелигиозные культуры.” (Пересказ Солжа)
…удивительная провинциальность а-ля Лейкин:
“И странно видеть взрослых мужчин, собирающихся и галдящих по-бабьему. Юноши в обнимку – как девушки. (Вспоминаю: в Ростове-на-Дону тоже была такая манера.)”
Это Италия, 1975 год. Натурально автор порой ведет себя, как “дикая тварь из дикого леса”, примеров очень много, особенно в издательских делах (там сплошь финский стыд), но не только. “У парней и у девушек многих – серьга в одном ухе”, – это уже швейцарская невидаль, достойная упоминания; там кантоны у Европы “переняли всё, до мини-юбок и сексуальных «живых картин»”.
…вообще видна какая-то одержимость плотским: вот про Карлайл:
“Ольга села в центре, посреди комнаты, держала нога за ногу, по американской привычке высоко, навыстав, поражали никем в Союзе не виданные её какие-то особенные белые чулки с плетёными стрелками; как будто жили у неё в разговоре не руки, а ноги, будто она выражала себя не мимикой лица, не жестами рук, а этими ногами в белых стрелках.”
…а вот уже Канада:
“Зато здоровенные, отъевшиеся тупые хиппи, в этом Канада от цивилизованного мира не отстала, греются на клумбах на солнышке, развалились в уличных креслах среди рабочего дня, болтают, курят, дремлют.”
Вот уж и впрямь, Дуньку в Европу можно вывезти… т.е. девушку из деревни, а наоборот не получится никогда. Самое место ему было, конечно, где-нибудь в журнальчике “Наш соплеменник”. В Америке желтые машины – это, “оказывается, такси”. Вообще “американские заметки” его явно написаны под влиянием совецких “журналистов-международников” типа одиозного Стрельникова.
Высот же лейкинского лингвострановедения он поистине достигает в записках об Азии: там и вся еда ему нехороша, и чаем он брезговал, и “щупальца рака” какие-то. Уже не говорю о явном презрении к синтоизму. О буддизме, кстати, так пренебрежительно он не пишет – по всему видать, совсем ничего не понял, хотя убежден, конечно, что это “религия” – тут, впрочем, его обманула ритуалистичность японского буддизма, и он, как многие, завороженно пялился на палец, а не на Луну. (И благовония ему не воняют благостно, как ладан, хехе.) Все “понимание” буддизма нашим крупным мыслителем сводится к фразе:
“Погоню буддистов за огромностью и за количеством – нам трудно понять, не улавливаю, как это связано с проповедуемой бренностью бытия”.
В общем, имперские культурные стереотипы прут наружу особенно на японском материале, за автора порой испытываешь финский стыд: он, кажется, за свой визит в Японию умудрился оскорбить и обидеть там всех, с кем сталкивался. Включая гейш: “кимоно некрасивы: портят их широченным поясом” – крупный заток японской культуры приговор подписал, куда деваться; лучше б молчал, как это обычно полезно, а так никогда не бывает, но нет же – нужно свое мудацкое мнение всему миру высказать). Про интуитивную фонетику с жы-шы я вообще молчу, многие слова и названия исковерканы до полной неузнаваемости. Вообще про Японию – самые позорные страницы, даже не менее одиозный Овчинников до такого не опускался – делал вид, что хотя бы уважает чужую культуру.
С православием там у него, конечно, тоже странности, хоть я и не знаток: “…загробной жизни доступны скорости выше световой – а только при этом условии и может Вселенная быть обиталищем.” What? Из других сверхспособностей автор нам демонстрирует в Итоне натурально диагностику по юзерпику:
“Сколько успевал, я на медленном ходу осматривал лица – все были прилично ухожены и многие холены, однако не скажу, чтобы много заметил напряжённых интеллектов, были и средненькие.”
Хотя про Украину он пишет сравнительно много и все время набивается украинцам в друзья, читать это сейчас вполне потешно:
“Во всяком случае, знаю твёрдо: возникни, не дай Бог, русско-украинская война – сам не пойду на неё и сыновей своих не пущу.”
Но что-то мне подсказывает, что вряд ли он был бы против войны ( https://www.spectator.co.uk/article/w…). Вдова ж явно за (хотя, к примеру, они оба были сильно против угрозы совецкого вторжения в Польшу в 1980 году, а чем они отличаются, да? Такая же суверенная страна). А вот это пусть будет здесь для коллекции (последние новости чуть ли не годовой давности): https://s-t-o-l.com/material/28259-sy… – ну хоть эти отца послушались.
Но вообще даже тут так много стонов по возжелавшей независимости Украине и другим совецким республикам, что Солжа вполне можно считать если не архитектором (это слишком много чести), то одним из давних вдохновителей нынешней войны – хотя как эта его обида за “национальное достоинство” русских и борьба с коммунизмом сочетались под его фирменной прической, хуй знает. Такой вот изъеб ХаХа века. Вот подтверждение из его письма Ельцину 1991 года:
“Это особенно остро – с границами Украины и Казахстана, которые произвольно нарезали большевики. Обширный Юг нынешней УССР (Новороссия) и многие места Левобережья никогда не относились к исторической Украине, уж не говоря о дикой прихоти Хрущёва с Крымом. И если во Львове и Киеве наконец валят памятники Ленину, то почему держатся, как за священные, за ленинские фальшивые границы, прочерченные после Гражданской войны из тактических соображений той минуты? Также и Южная Сибирь за её восстания 1921 г. и уральское и сибирское казачество за их сопротивление большевикам были насильственно отмежёваны от России в Казахстан.”
Так что Казахстану, видимо, по-прежнему приготовиться.
А вот про русских кряхтит он правду: “Видимо, мы не способны выстаивать в диаспоре – и это порок русского духа: мы слабеем, когда мы не в сплочённых (и командуемых) массах.” Не поспоришь, до сих пор оно так, к добру ли, к худу ли.
Буквально на одной странице он может ныть о том, что “России” с “Западом” “не по пути”, потому что Запад-де не станет поддерживать “национальное возрождение” (читай “нацизм” в его нынешнем изводе; само собой, потому что мы видим, что это Зло) и тут же:
“Как можно заключить перемирие с Дьяволом? Он-то всё равно не будет его соблюдать.”
Поразительная писательская, мыслительская и человеческая избирательная слепота. Зато здесь же про т.н. “третью эмиграцию” – очень точно и своевременно, прям как по нынешним сводкам новостей пишет. В целом же энтомологический очерк “третьей волны” очень напоминает то, что можно написать и о нынешней, n-ной.
Так и видишь, что, точно так же, как отмежевывался он от демдвижения, прикрываясь раденьем о “народе”, и сейчас бы трепетал полами белого пальто, то и дело осеняя себя крестным знамением и призывая если не прощать, то “понимать” кровавую кремлевскую гниду, у которой “все неоднозначно” и “Запад вынудил”… Но это, конечно, мой домысел, из самого текста же ясно одно – хуйня эта в мозгах у zоотечественникоv отнюдь не нова, и сейчас мы бы с автором совершенно определенно оказались бы по разные линии фронта, невзирая на его декларируемую любовь к Украине, потому что он не первый, конечно, но один из самых громких певцов того, что ныне зовут “резентментом”: в “Зернышке” он как будто инструкцию нынешним нытикам дает, кому “расею обидели, написали в норку”.
Другие нынешние читатели Солжа отмечают, насколько нелепо смотрится его тогдашняя полемика со всякими ничтожествами (только под ними мы, кажется, понимаем разных персон). Подтверждаю – уж очень как-то всерьез он относился он ко вполне гнилостному совкритику Лакшину (теперь уж никто и не помнит, что это было, канул вместе с совком и его литературой в помойку истории). (В этом месте у меня было еще пол-абзаца каких-то недоумений, но они потерялись и я их забыл.)
“…эти освобождённые литераторы – одни бросились в непристойности, и даже буквально в мат, и обильный мат, – как шкодливые мальчишки употребляют свою первую свободу на подхват уличных ругательств. (Как сказал эмигрант Авторханов: там это писалось на стенах уборных, а здесь – в книгах.) Уже по этому можно судить об их художественной безпомощности. Другие, ещё обильнее, – в лобовой секс. Третьи – в самовыражение, модное словечко, высшее оправдание литературной деятельности. Какой ничтожный принцип. «Самовыражение» не предполагает никакого самоограничения ни в обществе, ни перед Богом. И – есть ли ещё что́ «выражать»? (Замоднело это словечко уже и в СССР.) А четвёртым зна́ком ко всему тому – выкрутасный, взбалмошный да порожний авангардизм, интеллектуализм, модернизм, постмодернизм и как их там ещё. Рассчитано на самую привередливую «элиту». (И почему-то отдаются этим «элитарным» импульсам самые звонкие приверженцы демократии; но уж об искусстве широкодоступном они думают с отвращением. Между тем сформулировал Густав Курбе ещё в 1855: демократическое искусство это и есть реализм.)”
Ну и вот это “резюме” вышесказанного уж совсем уморительно:
“И почему же такая требуха не ходила в самиздате? А потому что самиздат строг к художественному качеству, он просто не трудился бы распространять легковесную чепуху. А – язык? на каком всё это написано языке? Хотя сия литература и назвала сама себя «русскоязычной», но она пишет не на собственно русском языке, а на жаргоне, это смрадно звучит. Языку-то русскому они прежде всего и изменили (хотя иные даже клянутся в верности именно – русскому языку).”
Надо ли говорить, что тот “русский язык”, которым написана бОльшая часть текстов “демократического подполья”, – тот же советский воляпюк и канцелярит, та же серятина с редкими коленцами псевдонародности, вроде Солжевых, это мало чем отличалось от жвачки отчетных докладов съездам партии. На этом-то фоне очень легко быть первым стилистом и даже в чем-то классиком. А стилистической чуткости понимать, что у этих “как их еще там” – просто другой путь освобождения языка от остоебенившей “нормы”, навязанной нерассуждающей массе совбарышнями из пролеткульта для лучшего контроля сознания, у нашего автора просто нет, увы. Он понимает как “освобождение” только откат к фальшивым псевдонародным песенкам-потешкам.
Глупости: что-то “производит величавое впечатление”, загадочный “румэт” (оказалось – roomette), “нагнетная машина” (кондиционер), “Трафальгарский сквер”, “самые лучшие”, “трудолюбивая биография”, “интернациональная служба Би-би-си”. “Когда тореро убьёт быка красиво – ему отсекают бычье ухо или хвост…” (это помимо собственно чудовищного желания “посмотреть” корриду). “Жюль Верн” явно считает одним словом, которой пишется через паузу (т.е. имя не склоняет). Имперское пренебрежение к именам, впрочем, лучше всего видно вот на этом примере: “Шерри (Sheree…” Bruce Herschensohn становится, конечно, “Брусом Гершензоном”, хотя даже русская википедья его знает сейчас как Брюса Хёршенсона. “Лионель Блох” опять же.
Понятия о географии у него тоже своеобразные: “…в Лос-Анджелесе, близ Голливуда”. “The Christian Science Monitor” он считает “ядовитой леволиберальной газетой”, а журнал “The Nation” “одиозным… прожженно-просоветским” (за то, что 20 годами раньше он осмелился выступать против упыря Маккарти; тут вообще остается только рыдать от восторга). Проявляет глубокие знания британской литературы (в совпереводе, конечно): “Как писал в таких случаях Диккенс: «Слушайте! слушайте!»”. Да, он из тех, кто на полном серьезе употребляет слово “будущность” и известного душителя “Монти Питонов” полоумного обскуранта Мэлкома Маггериджа называет “достойнейшим… сияющим стариком”.
А вот уже и не глупости, а прямо-таки вранье: упрекая академика Сахарова в полемических “передержках”, “совесть народная” не считает зазорным натягивать сам, называя его “потомком священника” (понятно же, что с такой родословной антиклерикальная позиция оппонента выглядит лучше). Священником был только прадед Сахарова, который я не знаю как мог из могилы воспитывать Андрюшу так, чтобы того потом можно было упрекнуть в отходе от истинной веры. Такое бывает лишь в махровой системе координат нашего автора, видимо.
Издание целиком подготовлено хорошо, только полоса набора очень широка и неудобна для глаза. И кое-где чудесные переносы: “свер-хусилия”. Ну и книгу Пильняка “Корни японского солнца” неведомый комментатор считает “романом”.