the first book of the year

Архипелаг ГУЛАГ 1918-1956: Книга I, II by Aleksandr Solzhenitsyn
My rating: 5 of 5 stars
Попробуем провести эксперимент. “Архипелаг” (“гуляк” или “good luck”, как тогда шутили) я по-русски так и не читал никогда. Когда это было актуально, было нельзя, а потом стало можно, но перестало быть актуальным. Теперь вроде как актуально снова. В зазоре же я купил Солжа в Сиднее на распродаже на англо за какие-то 2 доллара, и читал его так в долгом фрахте, а потом провез запретку в совок хитрым образом. Но на английском. Посмотрим, как это будет по-русски.
…Так, метафоры у него рассыпаются: потоки арестантов канализацией че-ка несет на архипелаг… а страна тогда что, унитаз? а срет арестантами что? …сплошные вопросы. Ну и достоевское нытье его, конечно, заебало до невозможности.
Однако злободневности сам текст в обличающей массе своей не потерял: ибо совок вновь поднял морду от своего корыта, опять хватают кого ни попадя по произвольным и надуманным обвинениям, опять армия доносчиков (особенно студенты, стучащие не своих преподавателей), в несколько размытом виде упрочилась 58я статья, в головах сограждан что-то “переверстывается”, и они превращаются в zоотечественникоv… Как будто и не было этих ста лет, и мы вновь наблюдаем “злодейство как величину пороговую”, когда вдруг раз – и нет больше человека, выбыл. “Ямка в мозгу” (не от радио, от первого канала).
Ну и отдельно – безнадега и беспомощность как русская национальная скрепа: тогда они сидели и покорно ждали ареста (чем вызывали у нашего автора риторическое возмущение), теперь они сидели и покорно ждали мобилизации. Говорю же, не изменилось ничего. Сравнение “спецслужб” (что тогдашних советских, что нынешних рашистских) с гестапо тоже не нынче придумано, конечно. Кстати, брехня про “своих не бросаем” – тоже истинно русско-советская скрепа: одна из проблем с советскими военнопленными в нацистских концлагерях была в том, что совки не подписали Гаагу, тем самым эффективно бросив своих (ну и вообще считая их предателями, конечно).
Слух режет вот это саркастическое, риторическое “мы” – что, в общем, и обозначило дальнейшую траекторию движения нашего нобелиата. Довыебывался до того, что припадал к ручке чекистского хуйла и принимал из нее премию. Это же как низко надо было пасть-то – или до чего слепым и неразборчивым стать под старость. Хотя “итог досточтимого художника” наметился, конечно, гораздо раньше – с бредней о НАТО и “изоляции России”: да-да, мемасик про “если не мы, то НАТО”, с хорошей точностью Исайч придумал. Ведь “Эх, Аляксандыр Исайявич…” Хвост недаром-то спел в свое время. Нравоучительная антизападная ебанина у Солжа – это, конечно, мусор, свойственный его голове.
Поскольку основная незадача этого текста: Солж, конечно, пишет правду, хоть и часто подпорченную заунывными риторическими фигурами, юродствованием и причитаниями, украшенную незнанием чего-то (нам-то сейчас легче в этом, конечно, разбираться, чем ему было видно из советского подполья больше полувека назад, хотя видно ему было удивительно много чего – он все-таки писал все это не один), но правда его – все-таки не свободная, а русско-имперская, ибо имперцем он был, имперцем и остался. Несмотря на все свои камлания и завывания, был одновременно и анти-советским, и под-советским. “Великая эпоха” тогда была у многих, несмотря на всю ее – и даже понимаемую для вящей шизофрении, и признаваемую открыто – чудовищность, мерзость, порочность и отсутствие права на существование этой позорной фашистской клоаки в цивилизованном мире. (Наверное, не удивительно, что читать я это сподобился, как и в первый раз, далеко за пределами необъятной, сука, родины. Внутри нее это невозможно по-прежнему.)
…Хотя “гражданская доблесть” до революции в российском обществе все ж, похоже, существовала – но век советского отрицательного отбора свел ее, считаем, на нет. (Но и царские тюремщики оставались людьми, в отличие от советских и нынешних, мы это видим, хоть и издали, но взять того же Навального.) Тем не менее, даже по этому исследованию Солжа (посвященному другому) хорошо заметно, как под давлением пошла члениться оппозиция (советской) власти – это же продолжается и посейчас, как мы видим.
Про язык Солжа писали много, и он помнит много прекрасных слов, а его языковые идиосинкразии не лишены смысла и логики, хотя мне осталось непонятным, почему он системно пишет “большевицкий”/”меньшевицкий”, но – “советский”. Интонационная пунктуация у него тоже вполне заразительна.
Но самое веселое в этой невеселой книге – если б не ее (и автора) претензия на “великий дискурс”, она была б замечательной менипповой филиппикой и вообще хорошим постмодернистским текстом. Это, по сути, и есть настоящий истерический реализм. И его риторика вдруг обретает провидческую силу (речь о 1922 годе): “Да ведь серьёзный момент! Да ведь окружены врагами! (И через двадцать, и через пятьдесят, и через сто лет так будет.)” Вот оно через сто лет так и осталось. Хаха.
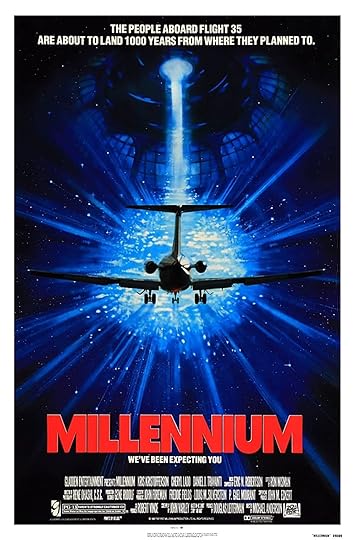




а эта Юрина старая песенка уже который день у меня в голове сама собой играет. “в доме со съехавшей крышей посредине зимы”



