some systematic reading

Salonica, City of Ghosts: Christians, Muslims and Jews, 1430-1950 by Mark Mazower
My rating: 5 of 5 stars
Одна из лучших популярно-исторических книжек, что мне в жизни попадались: история города через взаимодействия его православных, иудеев и мусульман, хотя Мэзауэр, кажется, несколько идеализирует Порту – ну и под конец непростительно полемичен для историка насчет того, как все у нас нынче делается. Раньше-то, знамо дело, море было чище, все газоны зеленее, а Белая башня белее.
И при этом – крайне своевременный учебник изгнания для нас, потому что Салоники – город беженцев. “Городу две тысячи лет”. С лишним. Живем не только на перекрестке миров и куче культурных слоев, но и в песне Цоя.
А я еще как будто домой вернулся, в город на сопках у моря.

Севка, Ромка и Виттор by Алексей Шеремет
My rating: 5 of 5 stars
Повести Шеремета (по аналогии с “романами-бротиганами” будем-ка мы звать их “свитками-шереметками”) очень примиряют с существованием литературы на русском языке. Каждый – и упражнение в радикальном стиле, и приключение для читателя, где не знаешь, что тебя ждет за поворотом страницы. Вернее там часто нет страниц как таковых, а есть следующий поворот запястья, действительно разворачивающего этот свиток на толику дальше. И не хочется, чтобы мастерски сопоставленные и соположенные слова кончались – но они, конечно, заканчиваются всякий раз, и ты ждешь следующего свитка-шереметка. Покамест автор нас не подводил.
Так и тут: повесть обманчиво определяется как для “младшего школьного возраста”, но ее и не всякий взрослый оценит по достоинству (спорим?). Если уж нужна матрица сравнений, то это такой идеальный Крапивин (ну или Рыбаков) для умных – воспоминание о мечте о “детской литературе” какой она дожна была быть, но так почти и не стала (сам Крапивин в какой-то миг стал писать для дебилов).
Казалось бы: идеальное детство, юг, все обещанное в аннотации, паутина интересных отношений между людьми разных поколений – и все это обволакивается другой паутиной, томительной и жутковатой, только сквозь которую мы и видим, что там на самом деле происходит. Если сложим мозаику в цельную картину, то есть.
Это, наверное, первый опыт повоенной литературы на русском о детях. То, что было после т.н. “великой отечественной спецоперации” не в счет: то был по большей части санкционированный пропагандистский фальшак, надевавший человечьи личины, а тут – живое, настоящее, уникальное. До боли в глазах, в пересохших слезных каналах.
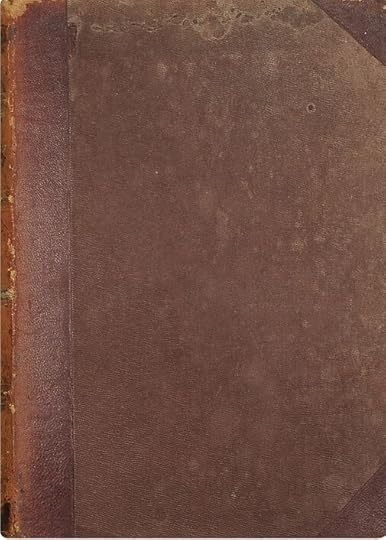
Македония: Археологическое путешествие by Никодим Кондаков
My rating: 3 of 5 stars
Беллетризованный шпионский отчет Кондакова о якобы археологическом туре по Македонии, изданный в 1909 году. Один из экспонатов исторически лживой политики России на Балканах: на словах поддержка “братьев-славян” против турок, албанцев и греков, сплошные обещания (в т.ч. и грекам), а на деле – поддержка только, считай, болгар. (Греки, понятно, до сих пор ждут русский флот, который поможет им сбросить османское владычество.) Археологии, на самом деле, тут тоже никакой нет, все сводится к каталогу заметок о впечатлениях поверхностного наблюдателя (потому что “глубокое изучение” даже, например, икон, потребовало бы отдирания досок, которыми те заколочены, как он сам пишет, а это слишком трудоемко).
Публикация “отчета” также служит риторической цели доказать общественности, что Македония в силу ее населенности славянами входит в сферу российских интересов. Фиг что из этого получилось, но неудивительно, что с такими подходцами Россия и “Большую игру” просрала, в общем. Там где у “академика” нет стенаний по “притесняемым” славянам, наблюдаются образцы классического академического пустословия, призванного исключительно нагнать строкаж или служащего показателем крайней недисциплинированности мышления. Даже не знаю, что и как он там писал про иконы. Видимо, так же. Во всем, что касается истории местности, он несамостоятелен и опирается на немцев или французов, добавляя лишь собственные благие измышления о славянской доминанте.
В главе о Салониках, как и в прочих, он преимущественно описывает, что можно увидеть, войдя в ту или иную церковь. Хотя и тут не обходится без рассказов о поруганьях, которые претерпели православные святыни от рук якобы турок. На самом деле, если вчитаться в текст получше, становится ясно, что это скорее сами православные хуй клали на свои места отправления религиозных культов, в проще говоря – срали в них, как это им исторически свойственно, забивали досками, закрашивали ужасной масляной краской и т.п. Отчет же нашего академического шпиона – вялая попытка перевалить всю вину на мусульман и обелить “своих” с известной целью: получить финансирование русского правительства на реставрацию святынь (и успешно спиздить деньги; напомню, что речь о самом начале хаха-века), о чем наш автор, в общем, открытым текстом и говорит (стр. 91). Если ж финансирования не будет, то и ну их нахуй, эти святыни (такова была судьба Св. Софии, в частности).
Надо отдать ему должное – до оголтелости прото-Фоменков конца позапрошлого века он не опускается: те-то византийского императора Юстиниана считали славянином. И еще вот за эту реплику кое-что можно ему простить:
Въ самом деле, кому не известно, какъ и при насъ простые русскіе люди переделывают на русскій манеръ и, такъ сказать, осмысливаютъ иностранныя фамилiи.
Зато он стоит на несколько других позициях, чуть менее нелепых: многие великие тех времен были албанцами (хорошо хоть не олимпийские боги), хотя теперь даже геополитику понятно, что Иллирия не = Албании ни в каком смысле.
Из причудливого: больше ста лет назад люди считали нормальными обороты вроде “дело идет о (том-то и том-то)”. Да и вообще понятия о редактуре, судя по монотонным повторам “красивых” и “ученых” оборотов (“как было говорено”, к примеру, раз пять на страницу), тогда никакого не было, все писали в меру своего разумения. Например, что означают многочисленные обороты вроде “изображение, относящееся к (кому-нибудь)”, я не понимаю: так изображен там этот кто-то или нет? Или на изображении сказано: тут изображен такой-то, но это неточно? Или там друзья и сородичи такого-то? Какая-то глубокомысленная хуйня, короче, с древности покупаемая “интеллигентным” русским читателем как “академический дискурс”.
Pynchon Notes 52-53 by John M. Krafft
My rating: 4 of 5 stars
Последний заход на подшивку прекрасного академического журнала.
И с самого начала – важный текст о “V.”, в котором кратко формулируется один из основных принципов Пинчонова историзма (истеризма): этическое осознание того, что всегда существует иной способ изложить исторический факт, всегда существует иной исторический опыт, всегда возможна иная история. Без этого осознания история была бы просто коллективной иллюзией былого опыта. К “роману в работе” это, конечно, тоже применимо в полной мере да еще и с прибором.
Текст, дающий представление об эволюции анархистского сопротивления от “Радуги” и “Лота 49” к “Винляндии” – и, что осталось за кадром, конечно, до “романа в работе” (эдакий гаджет для распознавания прошлого и будущего по фотографии в самом романе). Тема “вторженцев” (в романе они будут называться не так, конечно), кстати, тесно переплетена с анархистским сопротивлением, встроенным или же подпольным, это еще в “Лоте” заметно.
Важный текст про второе лицо в “Радуге” – к кому это обращается “автор”? В “романе в работе”, конечно, вопрос этот отнюдь не снимается, и мы его решаем по мере сил.
И в этом номере – великолепный мемуар Майкла Корригана об истоках Дня Пинчона-на-людях, который фактически отмечается с 1975 года, когда Пинчону устроили сюрпризную балёху 8 мая, на которую мог прийти и он сам (только никто не знал, как он выглядит, и поэтому его не опознали).
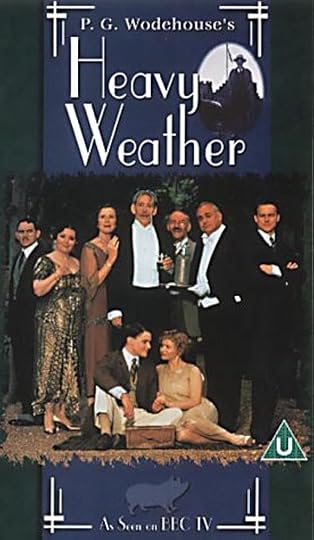





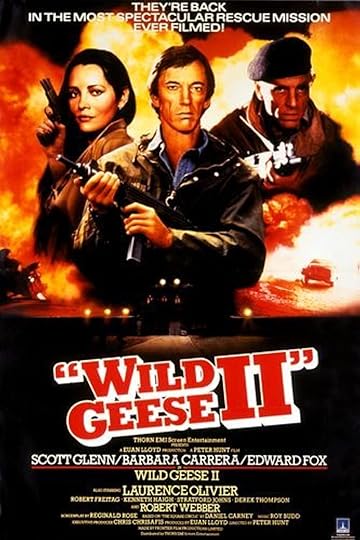
и вот вам два концерта в честь конца недели



