some antebellum reading
Unposted, Autumn Leaves: A Memoir in Essays by Stephen Oliver
My rating: 4 of 5 stars
Опоздавший родиться так, чтобы прибиться к битникам, Оливер – поэт из англоязыкой культуры, о которой мы ничего не знаем. Он “транстасманов” поэт – т.е. австралоазиатский, ассоциируемый и с австралийской, и с новозеландской ветвями тихоокеанской литературы, которые между собой не дружат. Авторы и той, и другой, ищут признания либо в Метрополии, либо в Колонии, где рынки побольше (взять тех же Питера Кэри или Кэтрин Мэнсфилд), Оливер же остался (на самом деле, вернулся туда) в регионе.
Оливер рос в хронотопе начала ХХ века где-нибудь в Ирландии (а даже там местная порода битников была до крайности своеобразна, см. воспоминания Кронина) и потому вырос человеком, по сути, несвободным, без безумия, необходимого для подкрепления чистых амбиций.
“No one invited us to join the ‘Generation of 68’. It seemed to us that this was a ‘movement’ more to do with self-serving minor talents and shrewd entrepreneurs who had leapt upon the bandwagon of American 60s folk poetry from the Black Mountain School, the NYC 50s school of O’Hara, whose torch was passed onto Ashbery in the 60s (and then through to Olson, Creeley and Duncan) and rolled onward, like a Democratic Campaign, to wash up in Lawrence Ferlinghetti’s City Lights Books on Columbus Avenue, San Francisco”.
В конце 60х их ролевой моделью был Дилан Томас, а также его разноцветные рубашки и галстуки. Неудивительно, в общем, что автор мемуара скатывается в сварливое бурчанье по поводу всей “контркультурной сцены”. Мы так тоже умеем, впрочем.
Книжка Оливера его обладает величайшей антропологической ценностью – особенно для нас, росших в гораздо худшем захолустье вселенной и в гораздо более унылое и подлое время. Новозеландцы-то хотя бы недостижимыми соседями были. В наших ебенях мы могли им только завидовать, поскольку они были частью мира, а мы нет (и не она до сих пор). Но вырваться даже из их разновидности культурного гетто им тоже было непросто.
Пишет он достаточно кучеряво и постоянно ссылается на свои стихи или цитирует их, что, конечно, лучше, если вам не приведется их читать отдельно. Но вместе с тем у него попадаются и совершенно чудесные инсайты:
Time only comes into existence as a measurable commodity, as an objective reality, when you have something to recollect, and the attempt to recapture that lost emotional and physical terrain is peculiar to you alone. If waiting mutates to fear in our adult years, it could be that we are facing in the wrong direction; oblivion is behind and not ahead of us.
Самшитовый лес by Mikhail Ancharov
My rating: 5 of 5 stars
Здесь я только КПГ перечитал, потому что не помню ничего: впервые читал, когда роман только выходил в 1986м в “Студенческом меридиане”. Мало того, что читал, – выдирал и сшивал, чтоб книга дома была. Скажу правду, тогда я мало что понял: версия была все равно журнальная, да и не очень я понимал, что это часть бОльшей анчаровской саги о тех же его любимых людях, несколько которых – он сам.
Как это ни странно, с предпочитаемым автором читаемого роднит много что, я про это уже упоминал, даже помимо летучего синтаксиса, диктуемого живой речью, а не мертвой быковатой “нормой”. При всей разнице онтогенезов и координатных сеток, оба они пытаются передать попытки постижения непостижимого мира позитивистски-научным мышлением – и оба приходят к принципиальной невозможности этого. С чуть разными, но в сути схожими выводами. Только Пинчон это делал методами “истерического реализма”, а Анчаров – “лирической фантазии”.
И еще в КПГ фигурирует эфир, такой важный элемент вселенной “романа в работе”. Здесь, помимо его самого, к тому же есть т.н. “материя с другими свойствами”, “материя вакуума”, “новая космогония, теперь увязанная с эволюцией, а прежняя – только с термодинамикой” (а ключевое понятие в ней – гравитация, сиречь тяготение). Ну и время как “третья материя”, конечно, из взаимодействующих двух, живой и неживой. Что это все, как не поиск лазейки (как это делал и Пинчон, вбок от которого Анчаров заходит) из дуалистической картины мира, в которую, даже при следовании коммунистическому идеализму, мир оказывался все же невпихуем. Против правды не попрешь, а оба они – писатели честные. Существовавшую вульгарную дихотомию “физиков” и “лириков” описывают, но явно не разделяют оба.
Про похожие особенности повествовательной оптики и монтажные приемы повторяться не стану, а жанрово и то, и другое (плюс, конечно, “Винляндия”) – семейные хроники с переменным фокусом, параллельные веку. Ну а в КПГ еще и возникает тема претеритов/недоходяг, только тут они называются “нищими духом”. В народных умельцах мыслить Анчарова и “картонных персонажах” Пинчона, на самом деле, больше общего, чем хотелось бы видеть поборникам несмешиваемости советской литературы с мировой.
Ну и экономические соображения Анчарова наивно-идеалистичны (как совместить рынок с плановой экономикой, например: а ввести артель), но они тоже откликаются рассуждениями Пинчона о незримой руке рынка (которая ему тоже не сильно нравилась, но артель у Анчарова – примерно такой же непостижимый инструмент).
А рассуждения его об этике и нравственности актуальности своей не утратили, конечно, и в связи с т.н. нынешней “новой этикой” неокомсомольцев и неохунвэйбинов стали, пожалуй, еще острее и полемичнее. И вообще пока что это самый пронзительный и надрывный его роман во всем эпосе. Впереди последние два тома.
Little Eli by Laura Bellini
My rating: 2 of 5 stars
Книжка красивая, конечно, однако с крайне неочевидным посылом. Или там просто детали невозможно разглядеть?
Russia 2010: And What It Means for the World by Daniel Yergin
My rating: 5 of 5 stars
Все чаще приходится вспоминать эту книгу, которая произвела на меня очень большое впечатление в начале 90х – и во многом подготовила к тому, что было позже. Чуваки, как оказалось, ебаные гении – с поправками на то, чем они занимались и для чего делали свои прогнозы. На русском она тоже есть и продается до сих пор – правда, я не знаю, что там с переводом. Сценарий, который у них назывался “Русский медведь”, из всех предложенных казался самым, конечно, кошмарным. Судите, впрочем, сами, насколько реальность сейчас превзошла его.
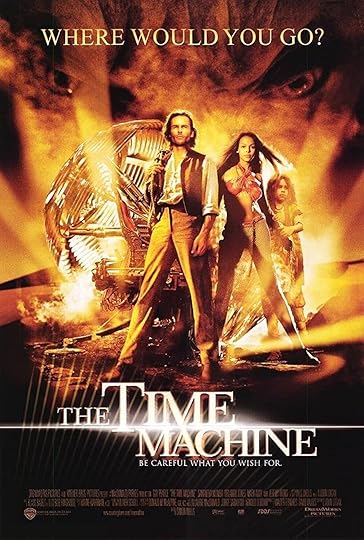
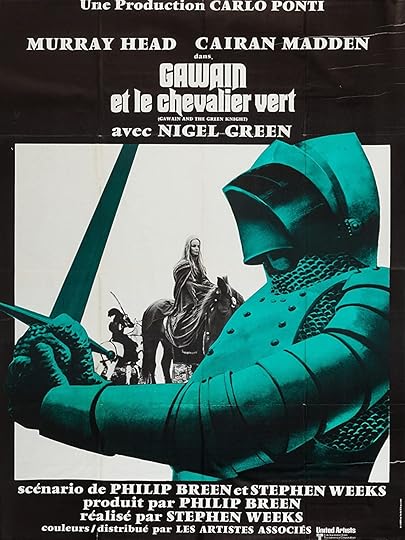
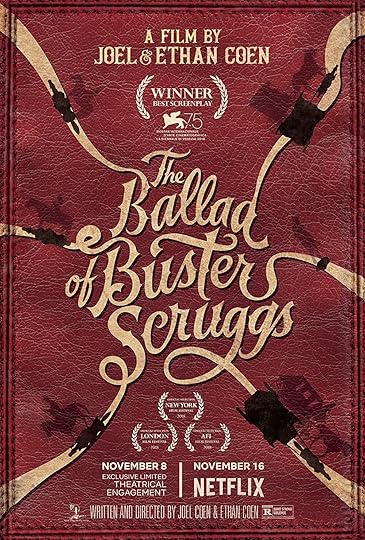

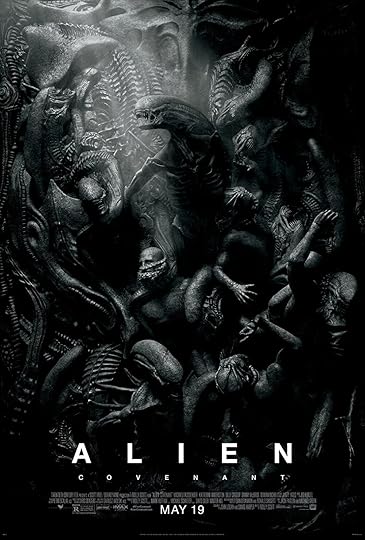
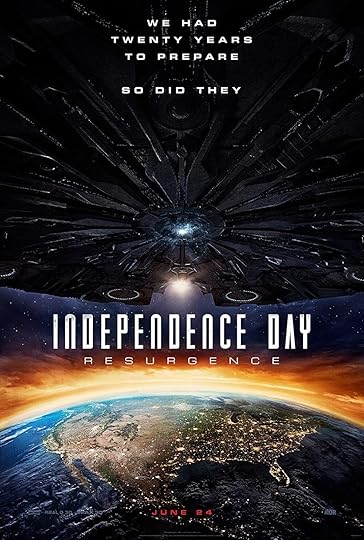
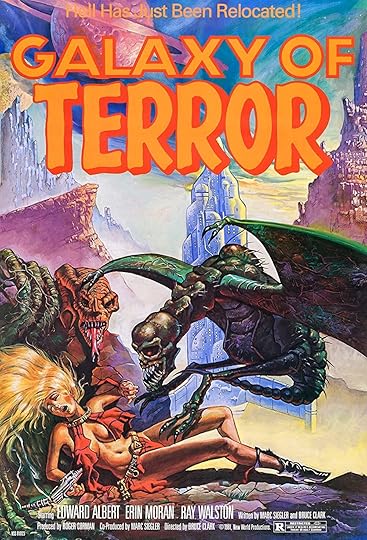

(это еще и примечательная движущаяся иллюстрация к Пинчонленду, так что рекомендую) (а пушку оттуда можно увидеть во Флотском музее в родном городе)
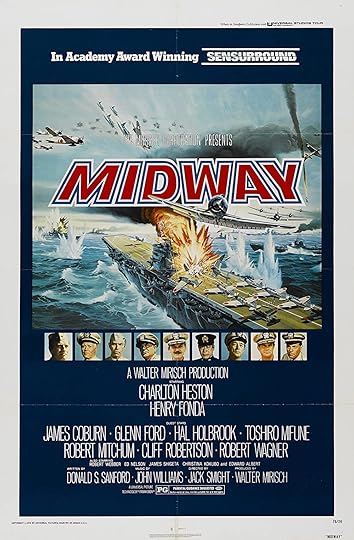
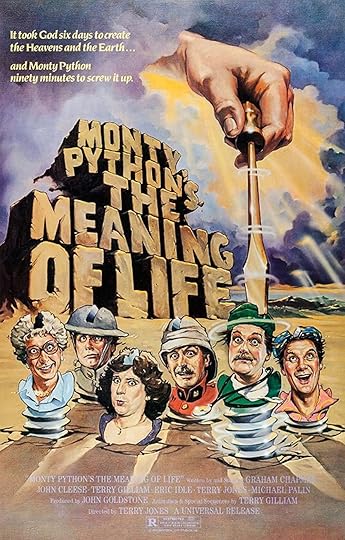
ну и вот это впридачу пересмотрели, надо было



