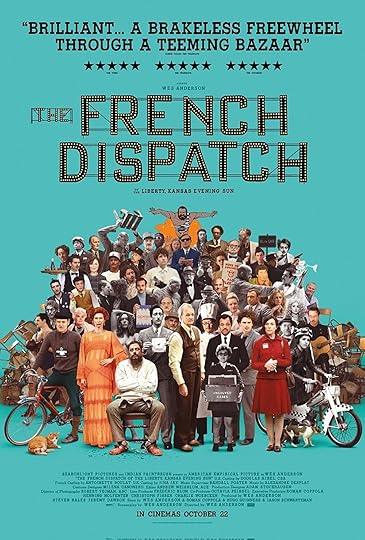working reading
Against the Grain: Reading Pynchon’s Counternarratives by Sascha Pöhlmann
My rating: 5 of 5 stars
Хронологически первый сборник текстов по “роману в работе” (руки до него дошли только теперь) открывается вступительным словом, с ходу заявляющим, что Пинчон – гораздо больше, чем просто постмодернист, – и тут я готов с ними согласиться. Он еще и постнационален, как нам рассказывают дальше. “Контражур” – поистине глобальный, а не просто энциклопедический роман, мало того – он трансграничен во всех смыслах.
Кстати, о названии: тут в одном месте есть намек на то, что сам Пинчон-де высказал пожелание, чтобы французский перевод романа назывался именно так и никак иначе (т.е., в общем, правильный перевод был санкционированно похерен, ничего не попишешь). Но это относится только к французскому переводу. Поскольку нам таких пожеланий для русского названия никто не высказывал, у нас он будет называться совсем иначе.
Тут полезные статьи о Маркузе и “Контражуре”, например, о “графическом импульсе” Пинчона, живописи и фотографии (как стилистических направляющих Пинчоновой писательской оптики, которую, кстати, порой напоминает взгляд Михаила Анчарова, особенно в военной прозе, но об этом позже) или о “контражурности” персонажей как “людей-высказываний”, но “романом в работе” дело не ограничивается: тут же вдруг присутствует и сверхынтересная статья о геометрии орбит в “Радуге”. Статья же о Дао Томаса Пинчона – еще один кандидат на полезный перевод (она гораздо лучше более поздней статейки “о тантре”).
Ну или вот прекрасное из одной статьи, тоже взывающей к переоценке традиционных мнений о текстах нашего автора: “John Johnston, one of the most prominent experts on the matter of media and literature, claims that in Gravity’s Rainbow “paranoia no longer designated a mental disorder, but rather a critical method of information retrieval”… In other words, paranoia itself is a method of resistance, because it forms a new information system which counteracts the communication networks of the upper echelons.”
А самая потешная статья – это обстоятельное сравнение чтения “Радуги” с еблей. Даже не с поглощением еды, заметим, как это модно делать на русскоязычных территориях. Так оно, конечно, гораздо логичнее и естественнее.
…Ну и да: с этим сборником мне стало окончательно ясно, что русскому пинчоноведению мировое никогда уже не догнать. Его попросту не существует. Вы видели хотя бы одну сколько-нибудь вменяемую монографию о Пинчоне на русском, не говоря о статьях, где говорилось бы что-то новое или интересное? Вот и я не видел.
Теория невероятности by Mikhail Ancharov
My rating: 5 of 5 stars
Из первого тома не читаны только рассказы, но даже в них – разных лет – видна эта особенность анчаровского взгляда, которая роднит его с другим великим лириком, Пинчоном: и когда он рассматривает пейзажи, особенно военные, и когда смотрит на дорогую ему фигуру персонажа, его речь превращается в постмодернистский монтаж, в сбивчивый каталог черт, выхваченных и на самом деле тщательно подобранных, хотя их набор кажется случайным. При этом постоянно меняется масштаб и фокусное расстояние. Но происходит это только в миг сильного душевного переживания.
Ну а вторая общая черта – это идеально услышанные, звонкие, афористичные голоса. Слух как у Анчарова, так и у Пинчона изумительный, редкий, можно сказать, слух.
Плюс оба используют метод исключенных середин, а у Анчарова даже встречаются, как это ни странно, гистероны протероны. От линейного нарратива, в общем, далеко, даже в рассказах.
В особенности пинчоновский по духу, стилю и даже фактуре (с поправкой на советскую романтику) рассказ 1971 года “Долгий путь через комнату”: “это маленькая история, но сквозь нее просвечивает время”. Вот еще одна из главных черт, общих для этих двух несопоставимых, казалось бы, авторов: просвечивающее время, историзм на грани истеризма. Но это, поди, тема для еще одной чьей-нибудь диссертации.
Поводырь крокодила by Mikhail Ancharov
My rating: 5 of 5 stars
Тоже дочитываю недочитанное раньше. Или перечитываю.
“Дорога через хаос” – образцовый постмодернистский роман, со всеми присущими стилю чертами. Лень перечислять, это тема чьей-нибудь диссертации. И здесь неизменно музыка языка и речи присутствует. А то, что Анчаров говорит об искусстве и творчестве, несмотря на кажущуюся простоту и очевидность этого, актуально до сих пор, потому что всеми хорошенько забыто (ну или не понято). Начиная с гениального описания “Дамы с горностаем” Леонардо (у него она – “девушка”): “Сидит. Умница. Всё.” Здесь он, конечно, немного дает Лессинга в своих “редакционных статьях” – но дает и драматургию, и песенки, сшивает лоскутное одеяло из всякого нужного. Из чего надо, из того и сшивает.
Становится заметно, что, чем дальше в лес, тем более импрессионистским становится у Анчарова письмо: он как бы отходит от “мовизма” Катаева, который в свое время был довольно вялой, но симпатичной попыткой отразить “саму жизнь” в прозе, а приближается порой буквально к словесному пуантилизму, когда за синтагмой вскрываются миры, симфонии времени и буквально музыка сфер. Что, в частности, и делает его настоящим советским постмодернистом.
Но, блядь, загадка в том, откуда у вполне преуспевающего московского художника и писателя эта “испанская грусть”: эта томительная блюзовая нота, которая не могла родиться даже из минувшей войны (потому что, как мы знаем, из войны рождалось совсем другое)? Сам он называет свои истории “отвратительно романтичными”.
“Страстной бульвар” (по которому сняли “Москва. Чистые пруды”) тоже хорошая повесть с нелинейным сюжетом, вся на надрыве, и кино по ней неплохое получилось, в меру сентиментальное и непретенциозное. Зря биограф Ревич, кстати сказать, ругает анчаровские фильмы и сценарии. Они нормальное расширение его литературы, хотя у СБ сценарий был вроде бы раньше.
“Прыгай, старик, прыгай” текст гениальный чуть менее чем полностью – и написан, когда Нил Гейман еще пешком под стол ходил. Только очень пунктирно. Как выяснилось, я его даже помню с детства.
“Роль” я совершенно точно раньше не читал, а в ней, по сравнению со всеми прежними текстами, отчетливее всего просвечивает свинцовая мерзость советского режима. Анчаров никогда не был, понятно, антисоветским писателем, как об этом справедливо говорит Ревич, но скрыть за “романтикой трудовых будней” идиотскую и преступную бестолковость в изображении “битвы за урожай” не смог бы даже самый верный брежневский лизоблюд.