always ready
 Мозговой ражжиж: Поэзия и проза фуистов by Борис Перелешин
Мозговой ражжиж: Поэзия и проза фуистов by Борис Перелешин
My rating: 3 of 5 stars
Удивительный сборник бесшабашных и пламенных западносибирских графоманов-доппельгангеров: мы-то больше знаем других Несмелова и Перелешина. Последний, кстати, пишется через ё в третьем случае и гнил в том же Моргородке на пересылке вместе с Мандельштамом (а роман его и рассказы я уже читал). Печатались они все, впрочем, в типографии ГПУ. Третий участник, Лепок, – тоже “уроженец Дальнего Востока”, что почти так же прекрасно, как “сын турецкоподданного” или “отца-юриста”.
К их чести, игра с внезапными среди революцьонного вербиажа рифмами (преимущественно неточными) и словообразованием у этой, местами по моде того времени пафосной томской компании, понаехавшей завоевывать столицу, была вполне потешна и занимательна. В общем, самоназвание их себя оправдывает полностью и без обмана: это гибрид (эго)футуризма и похуизма, пытавшийся выстоять против “наиболее квалифицированных идиотов”.
 My Life in CIA by Harry Mathews
My Life in CIA by Harry Mathews
My rating: 5 of 5 stars
Прекрасная пародия на то, что сейчас известно под модным погонялом “автофикшн” (как все заемные термины, слово лишенное всякого смысла). Автобиографией же это никогда и не притворялось, так что непонятно, с чего вся эта “брухаха”. Этим “мокьюментари” Мэтьюз попросту продолжает дело Лоренса Стерна, а то, что оба они мыслили насмешкой, в 21 веке вдруг стало восприниматься всерьез и породило “жанру”, в которой так блистательно выступил Эггерс ср своим “ДРТОГом”.
Изумительно и сверкающе, в общем, и как “шпионский роман”, где шпионаж – форма деятельностного искусства, а сам по себе сюжет – прихотливый побег на стволе Пинчона, конечно. …Хотя нет, предлог не тот: это побег по стволу.
 Пушкинский дом by Andrei Bitov
Пушкинский дом by Andrei Bitov
My rating: 4 of 5 stars
Текст многословный, болтливый и витиеватый, сумбурный авторский голос с его дармовыми фиоритурами, то и дело сбивающийся на сюсюканье или достоевское косноязычие, решительно неприятен и раздражает, потому что эмулирует красующегося перед зеркалом Набокова, который при этом если не хлопочет лицом, то корчит рожи. Эдакое “ни слова в простоте” сходило за образец “высокой литературы” разве что в начале 70х. В общем, недаром я его так и не дочитал 40 лет назад. Тогда история взросления и становления образцово-показательного советского интеля и потомственного мудака не казалась такой актуальной – этой соглашательской бесхребетной мрази и так вокруг было навалом, на ней весь строй держался. Зато сейчас все подернулось флером ностальгии и представляет явный энтомологический интерес. Эдакий Гэссов “Тоннель” по-советски. Вот только “прозревает” он в конце под водку, конечно, неубедительно.
Но вместе с тем, роман это не столько “петербургский”, сколько “обывательский” и “филологический”, а также роман пресловутого “билдунгса” – ну и “энциклопедический” заодно, в том изводе, в каком его понимали тогда советские интеллектуалы, стремившиеся выползти из-под бетонных глыб ебаного соцреализма. До настоящего постмодерна, однако, он все ж не дотягивает, потому что в нем маловато, в общем-то, менипповой сатиры, но уж сколько есть.
Зато пародии на советскую филологию хоть отбавляй, несмотря на то, что она подается с о-очень серьезными щщами, на которые купилось не одно поколение читателей. Это невнятное литературоведческое бульканье (“Пушкину и знать было не нужно, раз у него было… Тютчев… хотел, чтоб у него было, но у него не было”) невозможно, конечно, воспринимать всерьез. Особенно же показательны подозрительно связные монологи очень пьяных людей, которые на самом деле – авторские редакционные статьи, торчащие даже в таком вихлявом тексте зелеными мозолями (а это всегда признак скверного стиля). Ну и мета-нарратив тут Битов включает, куда ж без него: некоторых авторов хлебом не корми, а дай пообъяснять, как это они пишут то, что пишут. Однако часто это происходит не потому, что автору действительно есть что сказать или чем-то ценным поделиться, а потому что их просто распирает чувство собственной важности. К сожалению, Битов лишен свойства даже посмеиваться над собой, а в те времена это еще почиталось за доблесть. Потому-то “Пд” и граничит с вербозной графоманией, прямо наследующей т.н. психологической прозе, проросшей из мелкотемья т.н. русской классики, чьим предпочитаемым занятьем было ковыряться в пупках разных малоинтересных личностей. К счастью, мы знаем, что не весь русский постмодернизм таков.
Мелкая хуйня: поднимания наверх, самые худшие, довления над всеми, пинки ногой, японская ниндзя (what?), струйки облак (what??) неприличные слова, затертые многоточиями (хотя, думаю, эти ряды точек автор туда вписывал изначально сам, на их месте никаких слов и не предполагалось).
Зато: “к бениной маме” уже употребляется, а прогностическая сила рассуждений о том, что от милиционера убегать незачем, потому что “не убьет”, велика. А вся концовка – натуральный гистерон-протерон великой Силиной песни “Никак не могу кончить”. Но единственная живая лихость возникает только в энтомологических комментариях, поэтому их как раз читать, я бы решил, обязательно: только там и получаешь истинное удовольствие.
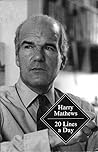 20 Lines A Day by Harry Mathews
20 Lines A Day by Harry Mathews
My rating: 4 of 5 stars
Отчасти дневник, отчасти автоматическое письмо, отчасти стихотворения в прозе, отчасти размышлятельные заметки (то, что называется pensées, включая рассуждения о миктурировании и дефекации) человека между двумя культурами (как и мы все), – но все это не вполне. Если поставить себе урок каждое утро писать по 20 строк, борясь с писательским затыком (чем, очевидно, Мэтьюз и занимался по завету Стендаля), такое вот и получится. Небезынтересно, особенно анекдоты и притчи, которые он там иногда рассказывает. Ну и про писательский быт УЛиПо вообще – как раз, когда он писал “Сигареты” (иногда в поезде, но неизменно с кайфом).
В общем, прекрасный образчик женитьбы алгебры с гармонией.
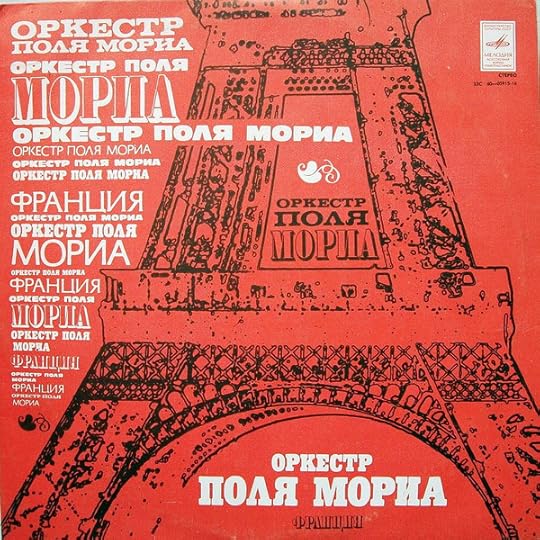
остальная музыка и кино как-нибудь в следующий раз
я и забыл про эту версию “Подмовсковных вечеров”, а она жива:





