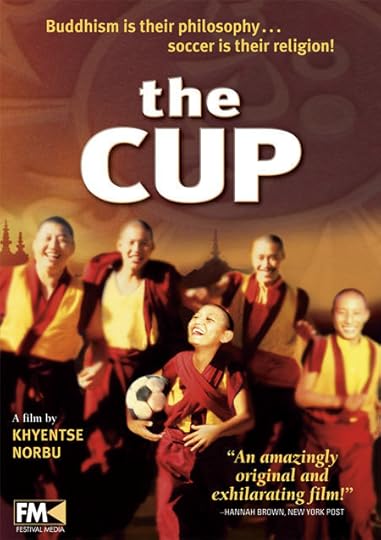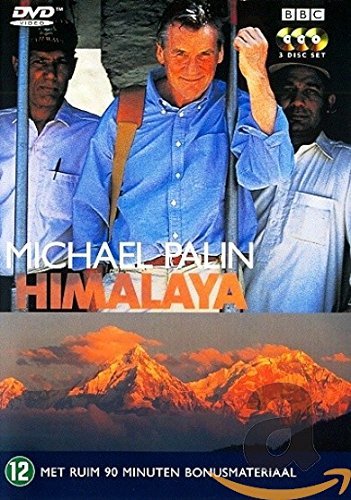more fall reading
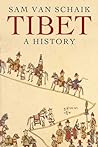 Tibet: A History by Sam Van Schaik
Tibet: A History by Sam Van Schaik
My rating: 5 of 5 stars
Прекрасный учебник истории — примерно как вернуться в пятый класс и читать истории про разных древних людей просто так, без дурацких вопросов в конце каждой главы.
Однако все равно все лучше бы воспринимать с известной долей скепсиса. Например, автор пишет нам, что геше Вангъял в 1951 году свинтил из СССР в США (где потом и основал первый буддистский монастырь и т.д.). Хотелось бы мне посмотреть, конечно, как ему это удалось. На самом же деле (так вышло, что я немного чего-то про это знаю), не в 51-м, а в 55-м. И не из СССР, а из Индии. Если же быть до конца точными, из СССР он свинтил в 1923-м вместе с НКВД-шной разведывательной экспедицией в Тибет под видом паломничества и под руководством Сергея Борисова (который, заметим в скобках, весной 1918-го и во Владивостоке наследил). Но, будучи умным калмыком, с разведгруппой этой Вангъял, носивший тогда другое имя, быстро расстался, еще не дойдя и до Лхасы, и в ССР больше не возвращался никогда (да и маловероятно, чтобы работал на советскую разведку в настолько глубокой конспирации; хотя тема это для конспирологического триллера богатая). А наша автор просто и объяснимо запутался в хитросплетениях поздних стадий Большой игры.
 Азбука (Ника) Рок-н-ролла by Максим Веселов
Азбука (Ника) Рок-н-ролла by Максим Веселов
My rating: 1 of 5 stars
Из Ника мог бы получиться занимательный персонаж и культурный герой, но, к сожалению, Веселов, конечно, никакой не писатель, поэтому у него ничего не вышло. Та часть, которая, собственно, “азбука”, в общем снята с “Энциклопедии юности” Юрьенена и Эпштейна, только написана далеко не так искрометно. Помимо нее, в книжке много необязательного вялого и тусклого вербиажа и унылого и утомительного авторского самолюбования, а про Ника что-то понадергано из других источников, которые мы все и так хорошо знаем. Это даже не пресловутая “осетрина второй свежести”, а обычная неоднократно пережеванная жвачка копипаста, которой нынче обычно удовлетворяется поколение миллениалов. Ну и масса всего тут понаписано про самого Веселова, а он персонаж вот прямо совсем неинтересный, да и жизнь у него скучная. Еще и читать про него? Ну уж нет.
 Непокой: Трагикомедия абсурда by Микаэль Дессе
Непокой: Трагикомедия абсурда by Микаэль Дессе
My rating: 2 of 5 stars
Лихо и бессмысленно, а порой и местами — браво и придурковато. Вообще отличительная черта некоторой современной русской словесности, видимо, поколенческая, — астилизм. Выражается он в грамотной мешанине всего со всем и призван маскировать собой тот простой факт, что автор начитался хороших книжек, но самому ему сказать особо нечего. Но очень хочется, а собственных фильтров для просеивания этой второй-третьей самсарной реальности и вываливая в очередной раз на читателя у него не развилось. Это не графомания, конечно, а просто некоторая как бы одномерность. Такой текст может даже развлечь, но недолго. Потом поневоле задумаешься, зачем это читать. И ответа не получишь, как ни старайся.
В данном случае автор не виноват, просто этот текст дал повод — такое я замечал у некоторых и раньше.
 Sommelier of Deformity by Nick Yetto
Sommelier of Deformity by Nick Yetto
My rating: 4 of 5 stars
Лояльные читатели сравнивают этот роман с произведениями Криса Мура (видимо, потому, что Крис его проэндорсил), но сказать по правде, ничего общего у этих двух авторов нет. «Соммелье» начинается как монолог околомиллениального апгрейда Игнациуса Ж. Райлли, как если бы тот вдруг оказался в романе кого-нибудь из авторов гениального издательства «Контемпорари Пресс» или в песне Петра Мамонова «Серый голубь». Хотя мы понимаем, что пропэтченный Игнациус — это, по сути, Шелдон Купер. Поэтому набросы героя на «mutual masturbation society» вполне потешны и развлекают (в частности, автор нам проводит очень существенную границу, какая мне раньше в литературе не попадалась: She’s Indian, dot not feather, — а это дорогого стоит).
В итоге же, в общем, оказывается, что, невзирая на всю заявленную трансцендирующую отвратительность, это вполне жизнеутверждающий, оптимистичный и политкорректный роман о ресоциализации маргинала. Вернее даже сказать — о джентрификации урода. Вполне актуально.
 Lost Horizon by James Hilton
Lost Horizon by James Hilton
My rating: 4 of 5 stars
Снаружи это по-английски уютный «британский колониальный роман» на фоне экзотического задника, где все только и делают, что разговаривают, мудаки ведут себя как мудаки, и это никого не раздражает, кроме читателя, а герои не какают, только иногда моются. При этом, мы знаем, что именно с него в западной культуре ХХ века началась массовая одержимость Тибетом (трогать эзотерическую традицию мы не будем, она была все ж элитарна). И нужно понимать, что даже экранизация Капры была достаточно скверной и не пойми о чем, но, по известному присловью, «смонтировали все так быстро и умело, что никто ничего не заметил», и некоторое обаяние идеологии книги фильм все ж передает. Дальнейших версий я не смотрел.
Так что ж такое этот самый «Горизонт» и где и почему его потеряли? Ответить нетрудно. Это, конечно, никакая не утопия и даже не политико-приключенческий роман о Большой игре, хотя все действие происходит на ее фоне, а собственно приключений в нем не сказать что много. Это типичная книга о межвоенном «потерянном поколении» и в первую очередь — духовный роман о поисках истинного мировоззрения одним таким травмированным (если не сказать искалеченным) Великой войной «лишним человеком» — и неугасимом и неотвратимом стремлении к нему. Метафорой Срединного пути здесь служит вера «лам» Шангри-Ла в «умеренность во всем»: такую вот аналогию подобрал автор, который никаким буддистом, конечно, не был, но какой-то «макулатуры» начитался. Показательно, конечно, насколько подробно изображаются его мысленные и духовные метания (уйти-остаться-уйти-остаться) и показателен тот поворот сюжета, что он все же уходит (и причины, по каким он уходит) из Шангри-Ла, т.е. от истинного учения, а потом всячески стремится к нему вернуться. Удается ему это или нет — вопрос открытый. Для контуженного войной впечатлительного юноши с тонкой душевной организацией такая дорожка метаний нормальна, я бы решил, да и автор у нас не мог, что называется, иначе, потому что сам не буддист и даже, в общем, не эзотер. В этом для нас сквозит некая большая и правильная правда.
И вот именно потому, что он не он, в основе всей идеологии Шангри-Ла у него лежит пыльная христианская доктрина, а само прибежище устраивает люксембургский монах, который когда-то забрел в Западный Тибет искать несториан. И вот тут уже у Хилтона в самой середке царит «большой горшок тухлого ячьего масла» (с). Но попытка, несомненно, засчитывается.