bits of light entertainment
 Шорохи прошлого by Маргарита Янковская
Шорохи прошлого by Маргарита Янковская
My rating: 4 of 5 stars
Продолжение (если не окончание) био-литературной саги семейства Янковских — на сей раз на эстраде женщины, мать, две дочери и еще парочка свойственниц. Я отдаю себе отчет, что интересно это может быть только тру-фанатам: литературной ценности в текстах, здесь собранных, довольно мало (если не считать вполне занимательной повести Виктории), а вот как памятник истории обыденности, документ повседневной культуры и бытовой психологии этот том великолепен. Жизнь всего клана и его соседей по истории такова, что что никаких романов или телесериалов не надо: «Аббатство Даунтон» эти сюжеты убирают в анемичный и скучный подвал, ибо все здесь — настоящее и непридуманное. Большое счастье, должен я сказать, что им хватило задора и амбиций так подробно и так долго (с учетом, понятно, утраченного) протоколировать собственную жизнь.
Плохо одно — подготовка издания. Т.е. Елена Сергеева — увлеченный исследователь, и спасибо ей, конечно, огромное за то, что собрала в книгу, все что смогла, а ее развернутые биографические справки на всяческих персонажей основных повествований читаются как отдельные микро-романы. Но и в них есть довольно странные лакуны: например, Байков объясняется как «знакомый семьи» или что-то в этом духе — и только; но мы-то знаем правду, поэтому сводить его к одной строке ничего не объясняющего примечания — довольно нелепо. Мешает книге и традиционное для «Рубежа» отсутствие редактуры и корректуры (глупо перепутанные даты, неисправленные косяки верстки, в т. ч. и на обложке, прочий мусор). Ну а предисловия и очерки самой Сергеевой написаны на таком советском казенном воляпюке, что зубы сводит. В общем, я думаю, сами Янковские бы не одобрили такого небрежного подхода. Они, конечно, тоже все были не великие стилисты, но не до такой же степени.
 The Translation Studies Reader by Lawrence Venuti
The Translation Studies Reader by Lawrence Venuti
My rating: 5 of 5 stars
Не исчерпывающая (поскольку охватывает только ХХ век, с 1900-х по 1990-е — но другого нам и не обещали) хрестоматия даже в таком виде затмевает любые русскоязычные учебники, а редакторские очерки самого Венути вполне инструментальны для тех, кто хочет хоть что-то узнать об истории переводо-прости-господи-ведения, но не утонуть в ней. Помимо хронологической схемы организации материала, там есть еще и историческая: в книге представлены тексты, знакомящие с немецкой романтико-национальной переводческой традицией, чешским и русским формализмом, семиотическим, лингвистическим и постструктуралистским подходами (и ни слова о «военном» или «машинном» переводе, потому что составляли сборник нормальные люди). Представленные в хрестоматии имена я, пожалуй, утаю, а то не будет интриги.
Но все равно понятно, что это хороший срез мира абстракций, который к нашей повседневной практике отношения имеет мало. Все это, разумеется, полезно знать, но все равно — никакое чтение (и тем паче цитирование вслух) никаких статей не заменит машинки распознавания образов в отдельно взятой голове переводчика: она либо есть, либо ее нет, а как она там работает — это уже вопрос другой. Лично у меня чтение теории вызывает умственный паралич, к счастью — быстро проходящий. Работать-то нужно каждый день, а такие статьи можно читать иногда для развлечения.
 Остров Мадагаскар by Aleksandr Mirer
Остров Мадагаскар by Aleksandr Mirer
My rating: 2 of 5 stars
Скучновато и без особого полета фантазии: мысль о Большом Брате в виде неких «космопсихологов» была бы радикальна и смела, конечно, но не в 1995-м году. Ну и пешеходной и затхлой советской этики автор туда накачал, отчего все это читается как дамско-производственная проза какой-нибудь Лидии Сейфуллиной.
Наша постоянная рубрика «трогательная грамматика»: слово «клавиш» (мужского рода).
Рубрика, которая запросто может стать постоянной, если все так же пойдет и дальше, — «тошнотворная хряпа»: «Не хочу умирать. Хочу видеть лицо Инге и вдыхать его нежную прелесть». Говорю же, чистая Сейфуллина.
 Mary, Mary by James Stephens
Mary, Mary by James Stephens
My rating: 4 of 5 stars
Первый роман Стивенза (1910) — обаятельный, но не такой сказочный, как последующие, напротив — он подчеркнуто реалистичный и «заостренный» на бедность и свободу Ирландии, ибо печатался в газете с продолжением, а сказка там растворена где-то глубже (даже если не считать очевидного сходства глав-героини с Белоснежкой, Златовлаской, а ее матери — с Золушкой). Волшебство — в самом голосе автора, располагающем, утешительном и вызывающем мгновенное доверие. Патрик Колум, который работал с ним вместе, пишет в предисловии 1917 года, что разговаривал Стивенз так же, как писал. Приятно получить подтверждение и доказательство тому, что сам, как казалось, понял из текста: Стивенз был очень хорошим человеком (хотя литературе это, как мы знаем, безразлично).
Ну а главное — «Мэри, Мэри» (более известная под своим экспортным названием «Дочь поденщицы») — великолепный дублинский роман, в котором город — такой же полноправный персонаж, как и люди, его населяющие.
 Дороги и судьбы by Наталия Ильина
Дороги и судьбы by Наталия Ильина
My rating: 5 of 5 stars
Основное произведение Ильиной, самое значимое для знакомства с Маньчжурской Атлантидой: те главы, в которых она рассказывает о жизни в Харбине и Шанхае, то есть. Ильина училась в одной школе с Верой и Юлием Бринерами, была хорошей знакомой Катерины Корнаковой, общалась, понятно, с Борисом Бринером, Янковскими, Вертинским и прочими, а в Харбине ее семья (благодаря матери, в первую очередь) была в центре литературной жизни (с чаями, застольями и чтениями — на какие хватало денег). Нормальная трудная жизнь в эмиграции.
А вот дальше начинается странное и непонятное. Судя по текстам в «Дорогах и судьбах» — сломалась, взял верх синдром упущенного карнавала, и «Штирлица стало рвать на родину». Все ее воспоминания сейчас, конечно, нужно читать как бы через кристалл исландского шпата — и потому что писались и издавались они еще в советское время, и потому, что «много неясного в странной стране». Все выглядит так, что Ильина в какой-то момент в Шанхае стала «дурой из идейных» и склонилась к просоветизму. С одной стороны понятно: война, патриотизм, «русский должен жить в России». С другой, судя по всему, в эту сторону ее повлек дух противоречия — мать (Войекова) была особой своеобразной (кстати, именно она могла перевести «Человека, который убил Гитлера», а не дочь: она подрабатывала такими переводами и переводила скверно, но исправно, чтобы платить за квартиру) и дочь очень не одобряла (и была несомненно права в этом неодобрении). Ну а кроме того накопились неурядицы, усталость от нищеты и неустроенности, провинциализм русской эмигрантской жизни в Китае вызвал к жизни «комплекс трех сестер» — в Москву! в Москву! там вся жизнь. Ну и странный брак с Львом Гроссе, который вроде бы распался у них до репатриации. В этой части еще больше неясного: вот здесь (http://litjournaldv.ru/index.php/publ…), например, глухо намекается на неприглядную роль, которую сыграла Ильина в аресте и гибели своего бывшего первого мужа по возвращении в СССР. Мы, понятно, свечку не держали, но даже если смотреть по номиналу, Ильиной ОЧЕНЬ, невероятно повезло: она провела всего несколько месяцев в бараках пересылки под Находкой и несколько лет по углам в Казани (фактически на поселении, хотя она это так и не называет — но намекает). Возвращенным Янковским и вернувшимся многим другим, в сравнении, повезло гораздо меньше. Ну а даже работа на ТАСС в Шанхае, как любое сотрудничество с этой властью, известно что значит, тут не нужно и сочинять ничего. Так что слухи о ее стукачестве, вполне возможно, и небеспочвенны: людям в ту пору так везти могло, конечно, но это не было правило.
Но даже в санированных эпохой мемуарах просвечивает ее отношение к этому собственному выбору: поздно пить боржоми, надо держать лицо и служить режиму. Как минимум — доказывать матери, что она сделала правильный ход, выбрав несвободу. При всех маскирующих движениях пера она удивительно честна: и сводя счеты с кем-то, и каясь за что-то, и поддаваясь сожалениям — ведь могла бы и не писать о «несознательной старухе» на сибирском полустанке и своей родственнице, которые задавали ей в конце 40-х один и то же вопрос: «А чего приехала-то?». Это не в смысле, что ей на родине были не рады, хотя конечно, были, а том в смысле, что эти люди, уже пережившие первые 30 лет советской власти, гораздо лучше китайской репатриантки понимали, что правильнее жить где угодно, только не в стране победившего социализма.
Ну и что в итоге? Странная карьера фельетонистки и пародистки «Крокодила» (читал я, кстати, в детстве эти ее сборники — из голода всех советских людей по смешному, которого никогда не хватало, — но даже тогда мне они казались какими-то беззубыми), автор одного романа (до которого мы еще дойдем в свой черед), академическая жена и вдова с лицом акулы из месткома. Реформатский, кстати, своеобразно относился к жене, о чем она и пишет с этой своей смесью откровенности, недомолвок, самоуничижения и самооправдания. Но сильнее всего горестная тоска по утраченной свободе пробивается в главах про поездки по Италии и жизнь во Франции (как ей, кстати, удавалось-то ездить столько? нетипично это для рядового гражданина, даже фельетониста). Эти же главы — прекрасная иллюстрация «кюльтюрного» туризма, свойственного советскому человеку: такой литературный турист мало чем отличается от лейкинских «наших за границей» — и когда осознаешь это, читая Ильину, понимаешь, что, видимо, она действительно оказалась в нужное время в нужном месте и репатриировалась правильно. Советскому человеку место только в совке.
 Here are Ladies by James Stephens
Here are Ladies by James Stephens
My rating: 5 of 5 stars
Как следует из названия, этот концептуальный сборник — в первую очередь о дамах, но не только. Стивенз с упорством, достойным писателя натуралистической школы, вновь анализирует здесь весь доступный ему диапазон женско-мужских отношений (с чарующими заходами в детство). Тексты его (притчи, скетчи и сказки, изредка перемежаемые стихами) лукавы, иногда впрямую смешны, иногда довольно безысходны в своем посыле. У некоторых «сломана спина» (см. Бартелми), они выглядят незавершенными, но это иллюзия — говорю же, сборник концептуальный.
Название, конечно, отсылает к известной надписи на старых картах «Here Be Dragons»: для Стивенза погружение в мир отношений — такое же мифологическое «странноведение», каким был Восток для Марко Поло, скажем. И отдельно следует упомянуть о его «триолях» — текстах, сгруппированных по три, с соответствующими названиями. Эти удивительные маленькие триптихи «с жалом в хвосте» — фактически Гегелевы триады. Такая организация литературного материала в первую очередь помогает самому автору разобраться в том, о чем рассказывает, видимо: о том, как все устроено между мужчинами и женщинами (причем мужская психология для него — едва ли не большая загадка, чем женская). Это сейчас мы можем посмеиваться над наивностью подобного дискурса, а 100 лет назад, в пре-модерне это еще было живой темой для бесед.
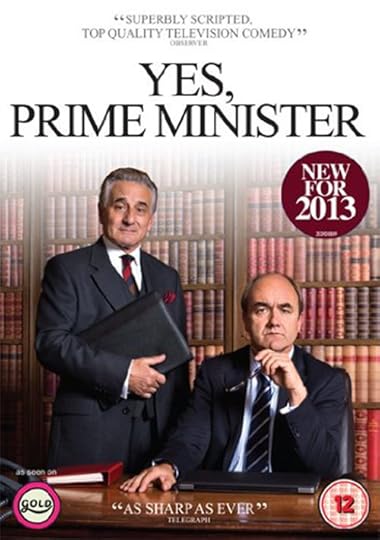
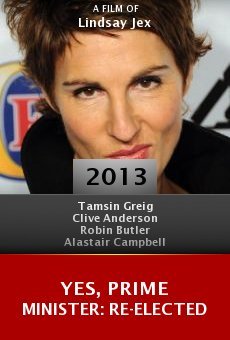

ну а у нас, как обычно, жизнь копирует искусство. Дёма когда-то написал эту песенку в ответ на “Террориста Ивана Помидорова” Шевчука. а тут позавчера вот оно как
Filed under: Дёма, just so stories











