Сергей Владимирович Волков's Blog, page 46
November 27, 2016
salery @ 2016-11-28T10:46:00
Довелось на днях участвовать в конференции, посвященной «государственным служащим в прошлом и настоящем». Бросилось в глаза, что над людьми, по идее вроде бы профессионально занимающимися этим предметом, витал дух «освободительной» беллетристики, на каковую ссылались как на базовый авторитет. Забавно, что даже авторы дельных конкретных докладов (был целый ряд таких), предваряли результаты своих исследований как бы извинением, типа «мы, конечно, знаем (ссылки на Некрасова-Маяковского), но вот тут некоторый материал… может быть, этот взгляд требует некоторой корректировки». Запомнилась пара занятных выступлений на пленаре.
Тяготение красной профессуры к своим истокам нашло выражение в выступлении одного оратора, противопоставлявшего бюрократии идеократию - в качестве высшей ценности и животворящего начала. Вот в первые годы Соввласти, когда жили революционной идеей – до чего здорово было, а как про мировую революцию подзабыли – тут и началась бюрократия и все беды вплоть до развала СССР (надо бы сейчас родить нечто типа того).
Другой в рамках того же «антибюрократического» тренда сильно печалился о зажиме в империи церкви. Это, впрочем, довольно распространенная т.з.: в известной среде считается, что церковь сама по себе на что-то способна, и ее независимость означала бы нечто большее, чем лишение епископа казенных дров. Причем им никогда не приходит в голову, что независимая церковь в православном варианте (где она имеет иерархию, замыкающуюся на национальном уровне) представляет идеальную оппозиционную структуру, способную стать местом притяжения всех диссидентских элементов (вольнодумные поповичи, которыми было так богато ревдвижение, тоже оставались бы внутри), превративших бы ее в нечто сильно «прогрессивное».
Для полной коллекции обличителей того предмета, которому была посвящена конференция, недоставало разве анархо-синдикалистов и просто анархистов (какой-нибудь Шубин или Дамье могли показаться тут вполне уместными). Но вообще-то, как ни смешно, специальное бичевание чиновничества вовсе не входило в задачу ее организаторов, это так стихийно получилось - благодаря вошедшей в плоть и кровь марксистской традиции (государство есть зло), люди по-другому не могли и не привыкли.
Тяготение красной профессуры к своим истокам нашло выражение в выступлении одного оратора, противопоставлявшего бюрократии идеократию - в качестве высшей ценности и животворящего начала. Вот в первые годы Соввласти, когда жили революционной идеей – до чего здорово было, а как про мировую революцию подзабыли – тут и началась бюрократия и все беды вплоть до развала СССР (надо бы сейчас родить нечто типа того).
Другой в рамках того же «антибюрократического» тренда сильно печалился о зажиме в империи церкви. Это, впрочем, довольно распространенная т.з.: в известной среде считается, что церковь сама по себе на что-то способна, и ее независимость означала бы нечто большее, чем лишение епископа казенных дров. Причем им никогда не приходит в голову, что независимая церковь в православном варианте (где она имеет иерархию, замыкающуюся на национальном уровне) представляет идеальную оппозиционную структуру, способную стать местом притяжения всех диссидентских элементов (вольнодумные поповичи, которыми было так богато ревдвижение, тоже оставались бы внутри), превративших бы ее в нечто сильно «прогрессивное».
Для полной коллекции обличителей того предмета, которому была посвящена конференция, недоставало разве анархо-синдикалистов и просто анархистов (какой-нибудь Шубин или Дамье могли показаться тут вполне уместными). Но вообще-то, как ни смешно, специальное бичевание чиновничества вовсе не входило в задачу ее организаторов, это так стихийно получилось - благодаря вошедшей в плоть и кровь марксистской традиции (государство есть зло), люди по-другому не могли и не привыкли.
Published on November 27, 2016 23:43
salery @ 2016-11-27T18:08:00
Вторая книга мемуаров о Первой мировой войне (куда я включил воспоминания офицеров казачьих войск, а также Кавказской туземной конной дивизии), планировавшаяся еще весной, в «Айрисе» все-таки вышла (и даже тиражом 3 тыс.). Но т.к. ситуация с продажами книг вообще очень плоха, то больше по ПМВ ничего тут не будет (если найду время, через год-два попробую издать в другом месте остальное этого жанра). Но вот том воспоминаний очевидцев событий 1917 (видимо, только один из планировавшихся трех — по февралю-марту) «Айрис» точно издаст (мне предстоит все закончить в начале декабря).
А книга по казачьим войскам выглядит так:
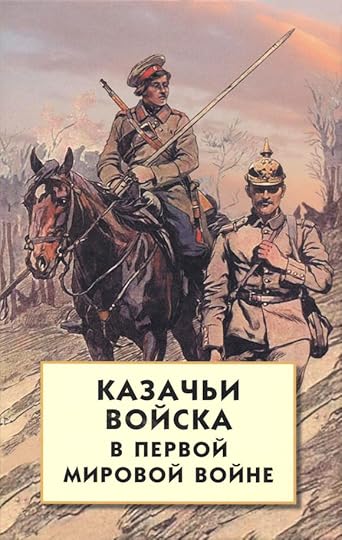
А книга по казачьим войскам выглядит так:
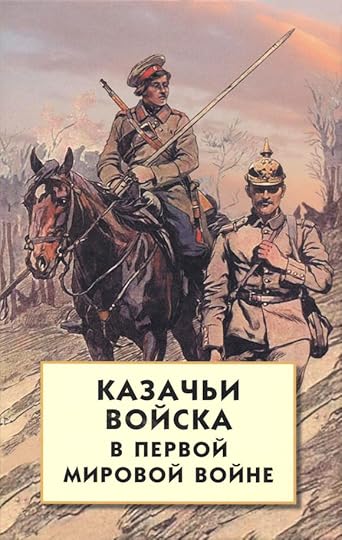
Казачьи войска в Первой мировой войне. — М.: Айрис-пресс, 2017. — 480 с. ISBN 978-5-8112-6264-9
Published on November 27, 2016 07:05
November 26, 2016
salery @ 2016-11-26T16:21:00
Было тут выражено высочайшее недовольство высокими чиновниками, избравшимися в АН. Это, видимо, надо было понимать как уважение к науке. Объект, однако, был выбран не совсем удачно, в членах АН такие лица как раз вполне уместны: это, в общем-то, клуб директоров (среди которых встречаются и ученые), такая же разновидность статусной структуры, как правительство, Дума, СФ и т.д., и изображать из себя ученых там вовсе не обязательно. А вот обретение ученых степеней нечто такое предполагает. Эта «медалька», несмотря на повальное увлечение ей начальствующих лиц, на самом деле сугубо специфична и символизирует «продвинутость» только в одной узкой сфере – науке. Тут бы и отделить котлеты от мух, запретив защиты лиц, не работающих профессионально в науке. Так ведь нет… даже от нападок «Диссернета» защитили козлищ сроком давности.
Хотя в общем-то вполне очевидно, что по-настоящему написание диссертации в качестве побочного занятия невозможно. Даже в аспирантуре, предназначенной только и специально для этого, и даже в советское время, когда подгоняли и боролись за «план», лишь около 10% представляли диссертации в положенный срок, а до половины вовсе их не написали (по АН СССР в 80-х этот показатель составлял 6-8%, причем представляли диссертацию только 51%). В одних случаях требуется доступ к экспериментальной базе, в других - многие сотни часов в архивах и библиотеках, на что чиновник времени иметь по определению не может (если может – должность надо упразднять).
Ссылки на международную практику тут неправомерны. Да, к концу ХХ в. стало вполне обычно, что административно-политическая элита самых разных стран включала заметную долю обладателей ученых степеней: в некоторых странах меньше (напр., в Испании - 14,4%), в некоторых больше (в Ю.Корее – 36,4%, США примерно 40%). На этом фоне «перестроечный» СССР (около трети), РФ 90-х (чуть более 40%) и нынешняя (подозреваю, более половины, точно не считал еще) выглядят, вроде бы, вполне нормально. Если бы речь на самом деле не шла о принципиально разных явлениях. Но все дело в том, что сущность сопоставимых цифр совершенно разная.
В принципе, если представитель власти имеет ученую степень, это не плохо, а очень даже хорошо, ибо в нормальном случае означает, что во власть пришел ученый. Человек профессионально работал в науке, защитил в ходе этого диссертацию, а потом взят был на госслужбу, ушел в политику и т.д. Заниматься полноценно наукой он уже больше, естественно, не может, но власть обретает сочлена с аналитическим мышлением, квалификацией, интеллектом и т.д. Именно так в нормальных странах и происходит (тамошние доктора в большинстве случаев «настоящие», это СНАЧАЛА доктора, а ПОТОМ политики-чиновники).
Но в СССРФ дело обстоит совсем иначе: тут человек, никогда наукой не занимавшийся (во всяком случае, не защитивший диссертацию в ходе профессиональной работы в ней), сначала становится начальником (чиновником или политиком), а потом обретает ученую степень. Т.е. это явление иного рода: не приход ученых в начальники, и не начальников в ученые (что до отставки невозможно), а вот то самое, что есть – присвоение «знаков отличия», не имеющих прямого отношения к роду деятельности (ну как если бы директоров роддомов награждали орденом «Мать-героиня»). И чего они именно к науке прицепились… если уж не достаточно быть «советником №-го ранга», «народный (заслуженный) артист» - уж куда как ближе.
Хотя в общем-то вполне очевидно, что по-настоящему написание диссертации в качестве побочного занятия невозможно. Даже в аспирантуре, предназначенной только и специально для этого, и даже в советское время, когда подгоняли и боролись за «план», лишь около 10% представляли диссертации в положенный срок, а до половины вовсе их не написали (по АН СССР в 80-х этот показатель составлял 6-8%, причем представляли диссертацию только 51%). В одних случаях требуется доступ к экспериментальной базе, в других - многие сотни часов в архивах и библиотеках, на что чиновник времени иметь по определению не может (если может – должность надо упразднять).
Ссылки на международную практику тут неправомерны. Да, к концу ХХ в. стало вполне обычно, что административно-политическая элита самых разных стран включала заметную долю обладателей ученых степеней: в некоторых странах меньше (напр., в Испании - 14,4%), в некоторых больше (в Ю.Корее – 36,4%, США примерно 40%). На этом фоне «перестроечный» СССР (около трети), РФ 90-х (чуть более 40%) и нынешняя (подозреваю, более половины, точно не считал еще) выглядят, вроде бы, вполне нормально. Если бы речь на самом деле не шла о принципиально разных явлениях. Но все дело в том, что сущность сопоставимых цифр совершенно разная.
В принципе, если представитель власти имеет ученую степень, это не плохо, а очень даже хорошо, ибо в нормальном случае означает, что во власть пришел ученый. Человек профессионально работал в науке, защитил в ходе этого диссертацию, а потом взят был на госслужбу, ушел в политику и т.д. Заниматься полноценно наукой он уже больше, естественно, не может, но власть обретает сочлена с аналитическим мышлением, квалификацией, интеллектом и т.д. Именно так в нормальных странах и происходит (тамошние доктора в большинстве случаев «настоящие», это СНАЧАЛА доктора, а ПОТОМ политики-чиновники).
Но в СССРФ дело обстоит совсем иначе: тут человек, никогда наукой не занимавшийся (во всяком случае, не защитивший диссертацию в ходе профессиональной работы в ней), сначала становится начальником (чиновником или политиком), а потом обретает ученую степень. Т.е. это явление иного рода: не приход ученых в начальники, и не начальников в ученые (что до отставки невозможно), а вот то самое, что есть – присвоение «знаков отличия», не имеющих прямого отношения к роду деятельности (ну как если бы директоров роддомов награждали орденом «Мать-героиня»). И чего они именно к науке прицепились… если уж не достаточно быть «советником №-го ранга», «народный (заслуженный) артист» - уж куда как ближе.
Published on November 26, 2016 05:17
November 14, 2016
salery @ 2016-11-15T10:32:00
Сегодня исполнилось 10 лет моего появления в ЖЖ. Был ли в этом смысл и есть ли – продолжать? Склоняюсь к мысли, что некоторый был, насчет продолжения не так уверен, но пусть получится, как получится (не будет совсем настроения – ну и покончу с этим). Поскольку со своим набором взглядов и симпатий в каком-то печатном органе (в т.ч. и сетевом) любого из нынешних направлений я прийтись ко двору не могу, то такой индивидуальный был вполне логичным выходом. Надо было только несколько ранее перейти в бескомментный режим. Круга читателей я совершенно не представляю и фактически делюсь своими впечатлениями о предметах изучения и об окружающей действительности с 5-6 людьми, которые о том и просили. Потребность же в общении вполне покрывается замечаниями, изредка оставляемыми мною в журналах чем-то симпатичных (даже лично не знакомых) лиц. Почти все, зафрендженные в первые месяцы (а потом почти не добавлял), давно исчезли, но читать больше, чем осталось, я и времени не имею. Так и живу.
Published on November 14, 2016 23:29
November 10, 2016
Веселые картинки
Что-то «профессиональное жюри» опять облажалось… Тенденция, однако... Реакция же адептов религии Мирового Добра доставила на сей раз еще большее удовольствие, чем в прошлый. Причем придурки эти (религиозные фанатики - придурки по определению) совершенно напрасно так сильно убиваются: не настолько все для них плохо, как они вообразили, накрутив самих себя сверх всякой меры. Их, привыкших принимать извращения некоторого порядка вещей за его суть, всего лишь слегка ткнули мордой в дерьмо.
Никаких глобальных изменений от победы ненавистного им хулигана не воспоследует. Она есть лишь некоторый симптом, и в этом смысле нет разницы – случился небольшой перевес или нет – существенно, что хулиган этот вообще состоялся и половина населения как бы «опамятовалась» (даже если это «последние судороги белой Америки»). Выздоровления от идеологических болезней происходят медленно, вон от советско-коммунистической до сих пор полностью не избавились, а той левацкой заразе, что утвердилась в 60-х, всего-то чуть больше полувека, и даже такое лекарство, какое обнаружилось в виде воинствующего исламизма, быстрого эффекта не дает.
Впрочем, замеченное ликование в официально-патриотической среде выглядит почти столь же неоправданным и явно избыточным, а мечты о полюбовных соглашениях – необоснованными. Для последнего стороны должны быть если не равноценны, то адекватны друг другу, что совершенно не так; принимать на веру уверения придурков из западных СМИ о родственности Трампа и Путина вовсе не стоило бы.
Первый, хоть и выглядит на фоне укоренившегося маразма хулиганом, на самом деле всего лишь представляет одну из возможных тенденций в политике нормального государства (в русле которой США в свое время и пребывали) – изоляционизм, протекционизм и т.д. Второй же не только возглавляет нечто, являющееся не нормальным государством, а осколком идеократического квазигосударства, но деятель, строго говоря, не государственный, а «корпоративный», и государственных геополитических задач как таковых перед собой не ставящий.
Поэтому даже если Трампу повезет остаться в живых и в какой-то мере проводить задуманную политику (что совсем не факт) о серьезных договоренностях на тему какого-то «раздела сфер» речи не пойдет: в РФ просто нет той власти, с которой их можно было и стоило бы заключать. Более того, Путин едва ли осмелится вполне воспользоваться обстоятельствами (если действительно какое-то время «будет не до него»), чтобы приобрести существенные активы-козыри даже в целях своего мелкого гешефта (т.е. торга «возьмите то, простите это и оставьте меня в покое»).
Так что для меня лично положительный эффект от этих американских выборов – это лишь многочисленные «веселые картинки», создаваемые поведением самых разных людей в связи с открывшимися обстоятельствами. Все эти уморительные метания европейских подголосков, воспитанных хозяином в определенном духе и вдруг с ужасом представивших перспективу смены «генеральной линии»; смятение привыкших с уверенной надеждой взирать на Град на Холме от мысли, что теперь «царь не настоящий» и т.п.
Людям, психологически оказавшимся в сложном положении, по-человечески, конечно, можно посочувствовать. Скажем, человеку, перебравшемуся в США, совершенно нормально стать патриотом новой родины, как столь же нормально оставаться патриотом прежней. Но быть патриотом США живущему в России русскому человеку уже несколько странно. Такие, однако, есть. И каково же им теперь, когда вроде как предала их далекая родина? Или вот одна дама долгое время раздражала меня симпатиями к П., несколько лет на конкретных примерах я убеждал ее в том, что он закоренелый совок, но мои аргументы не действовали, она не сдавалась (ну типа православный человек, со свечкой стоит). Но вот стоило ему всерьез поссориться с США (а она американская гражданка), как симпатии резко прекратились. Так что же ей теперь, когда в ее отечестве пришел к власти, как уверяют, аналог П., - снова ему симпатизировать?
Все эти картинки тем более забавны, что, как уже говорилось, вызваны совершенно преувеличенными и искусственно вызванными страхами. Но вот некоторые уроки вполне себе объективны. Вот как война с исламистами развеяла представление о решающей роли, если не самодостаточности «бесконтактной войны с воздуха», так, похоже приходится усомниться во всемогуществе СМИ (тут ведь, кажется, превосходство против Трампа было как по авиации у США в войне с Саддамом). Тоже для некоторых неприятное открытие, что в борьбе с самой жизнью, с естеством, прущим сквозь щели заколоченного ящика, средств, считавшихся вполне надежными, оказывается недостаточно.
Никаких глобальных изменений от победы ненавистного им хулигана не воспоследует. Она есть лишь некоторый симптом, и в этом смысле нет разницы – случился небольшой перевес или нет – существенно, что хулиган этот вообще состоялся и половина населения как бы «опамятовалась» (даже если это «последние судороги белой Америки»). Выздоровления от идеологических болезней происходят медленно, вон от советско-коммунистической до сих пор полностью не избавились, а той левацкой заразе, что утвердилась в 60-х, всего-то чуть больше полувека, и даже такое лекарство, какое обнаружилось в виде воинствующего исламизма, быстрого эффекта не дает.
Впрочем, замеченное ликование в официально-патриотической среде выглядит почти столь же неоправданным и явно избыточным, а мечты о полюбовных соглашениях – необоснованными. Для последнего стороны должны быть если не равноценны, то адекватны друг другу, что совершенно не так; принимать на веру уверения придурков из западных СМИ о родственности Трампа и Путина вовсе не стоило бы.
Первый, хоть и выглядит на фоне укоренившегося маразма хулиганом, на самом деле всего лишь представляет одну из возможных тенденций в политике нормального государства (в русле которой США в свое время и пребывали) – изоляционизм, протекционизм и т.д. Второй же не только возглавляет нечто, являющееся не нормальным государством, а осколком идеократического квазигосударства, но деятель, строго говоря, не государственный, а «корпоративный», и государственных геополитических задач как таковых перед собой не ставящий.
Поэтому даже если Трампу повезет остаться в живых и в какой-то мере проводить задуманную политику (что совсем не факт) о серьезных договоренностях на тему какого-то «раздела сфер» речи не пойдет: в РФ просто нет той власти, с которой их можно было и стоило бы заключать. Более того, Путин едва ли осмелится вполне воспользоваться обстоятельствами (если действительно какое-то время «будет не до него»), чтобы приобрести существенные активы-козыри даже в целях своего мелкого гешефта (т.е. торга «возьмите то, простите это и оставьте меня в покое»).
Так что для меня лично положительный эффект от этих американских выборов – это лишь многочисленные «веселые картинки», создаваемые поведением самых разных людей в связи с открывшимися обстоятельствами. Все эти уморительные метания европейских подголосков, воспитанных хозяином в определенном духе и вдруг с ужасом представивших перспективу смены «генеральной линии»; смятение привыкших с уверенной надеждой взирать на Град на Холме от мысли, что теперь «царь не настоящий» и т.п.
Людям, психологически оказавшимся в сложном положении, по-человечески, конечно, можно посочувствовать. Скажем, человеку, перебравшемуся в США, совершенно нормально стать патриотом новой родины, как столь же нормально оставаться патриотом прежней. Но быть патриотом США живущему в России русскому человеку уже несколько странно. Такие, однако, есть. И каково же им теперь, когда вроде как предала их далекая родина? Или вот одна дама долгое время раздражала меня симпатиями к П., несколько лет на конкретных примерах я убеждал ее в том, что он закоренелый совок, но мои аргументы не действовали, она не сдавалась (ну типа православный человек, со свечкой стоит). Но вот стоило ему всерьез поссориться с США (а она американская гражданка), как симпатии резко прекратились. Так что же ей теперь, когда в ее отечестве пришел к власти, как уверяют, аналог П., - снова ему симпатизировать?
Все эти картинки тем более забавны, что, как уже говорилось, вызваны совершенно преувеличенными и искусственно вызванными страхами. Но вот некоторые уроки вполне себе объективны. Вот как война с исламистами развеяла представление о решающей роли, если не самодостаточности «бесконтактной войны с воздуха», так, похоже приходится усомниться во всемогуществе СМИ (тут ведь, кажется, превосходство против Трампа было как по авиации у США в войне с Саддамом). Тоже для некоторых неприятное открытие, что в борьбе с самой жизнью, с естеством, прущим сквозь щели заколоченного ящика, средств, считавшихся вполне надежными, оказывается недостаточно.
Published on November 10, 2016 01:43
November 7, 2016
salery @ 2016-11-07T11:29:00
Сдал в печать книгу об элитных группах традиционных обществ (летом напрягся и превратил копившийся годами материал в сколько-то связный текст), представляющую собой сравнительно-сопоставительные наблюдения по некоторым аспектам этой темы, каковые суть: структура элиты традиционных обществ (номенклатура элитных групп, функциональная и цивилизационная типология), численность этих групп и их удельный вес в населении, порядок комплектования и уровень самовоспроизводства, а также взаимосвязь сословных и функциональных групп при разложении традиционных обществ (в XVIII-XIX вв.). Получилось 16-17 а.л.
По-хорошему, конечно, для того, чтобы обобщать, надо бы иметь результаты 600-700 конкретных исследований на эту тему по разным странам и эпохам. Но т.к. работа с массовым материалом (даже если таковой имеется) трудоемка, и любителей мало, то проведено их было за все время существования современной науки десятка три. Но что есть, то есть; по крайней мере доступный фактический материал я постарался привести.
Надо сказать, что тема эта обычно занимает предельно скромное место в исторических исследованиях, что находит отражение и в фундаментальных обобщающих трудах по истории стран и регионов (даже в самых хороших из них всех абзацев, так или иначе ее затрагивающих, набирается обычно по полторы-две, в лучшем случае 3-4 страницы на 1,5 - 2 тыс. стр. общего объема). Но мне это всегда казалось очень интересным, вот и написал, что смог, прежде всего - для себя самого.
Элитным группам массовых обществ (где все существенно иначе и проблемы стоят по-другому) планируется посвятить отдельную книгу (она в том же «разобранном» состоянии – в виде «материалов для...», что была эта), и если настроение и обстоятельства опять совпадут (этим летом жил все время на даче, где нет монитора с широким экраном, и вынужден был прервать текущую работу, с коей провожусь до следующего лета), она тоже когда-нибудь увидит свет.
По-хорошему, конечно, для того, чтобы обобщать, надо бы иметь результаты 600-700 конкретных исследований на эту тему по разным странам и эпохам. Но т.к. работа с массовым материалом (даже если таковой имеется) трудоемка, и любителей мало, то проведено их было за все время существования современной науки десятка три. Но что есть, то есть; по крайней мере доступный фактический материал я постарался привести.
Надо сказать, что тема эта обычно занимает предельно скромное место в исторических исследованиях, что находит отражение и в фундаментальных обобщающих трудах по истории стран и регионов (даже в самых хороших из них всех абзацев, так или иначе ее затрагивающих, набирается обычно по полторы-две, в лучшем случае 3-4 страницы на 1,5 - 2 тыс. стр. общего объема). Но мне это всегда казалось очень интересным, вот и написал, что смог, прежде всего - для себя самого.
Элитным группам массовых обществ (где все существенно иначе и проблемы стоят по-другому) планируется посвятить отдельную книгу (она в том же «разобранном» состоянии – в виде «материалов для...», что была эта), и если настроение и обстоятельства опять совпадут (этим летом жил все время на даче, где нет монитора с широким экраном, и вынужден был прервать текущую работу, с коей провожусь до следующего лета), она тоже когда-нибудь увидит свет.
Published on November 07, 2016 00:26
November 6, 2016
salery @ 2016-11-06T16:53:00
Несколько месяцев назад выражал я крайне скептическое мнение относительно желания публики получать реальные знания даже при наличии людей, из идеалистических соображений желающих эти знания дать. Однако же этой осенью Университет Дмитрия Пожарского (действующий именно из таких соображений) все-таки начал свою деятельность с двух магистерских программ (с 2018 собираются и бакалавров набрать). Ну что, иной раз и чудеса случаются (мне до сих пор не доводилось слышать, по крайней мере в РФ, о частном вузе, не только не берущем плату, но и платящим стипендии). При УДП существуют и вечерние курсы (появившиеся ранее самого УДП и тоже, естественно, бесплатные) для всех желающих, с ассортиментом от древнеегипетского языка до современной проблематики. Так вот с этого года (с 1 ноября) там читаются и два курса, которые я берусь рекомендовать желающим получить адекватное представление о внутренней политике РИ. Это курсы А.В. Мамонова о времени Александра II (https://courses-dpu.timepad.ru/event/391448/) и М.М. Шевченко о времени Николая I (https://courses-dpu.timepad.ru/event/391504/).
Published on November 06, 2016 05:50
October 27, 2016
salery @ 2016-10-27T12:15:00
Ну и поводы, однако для народного возмущения… Теперь вот все накинулись на какую-то «некорректно» высказавшуюся студентку. Вот удивительно, до чего сильна в публике потребность в лицемерии, причем чужом. Когда разбавленная жуликами и бандитами советская сволочь изображает русских патриотов и «возродителей России» это, по крайней мере с т.з. ее интересов, понятно (менее понятно, почему это нравится окружающим): это взрослые люди, «на том стоящие». Но что же, вы хотите, чтобы еще и 20-летние дети их лицемерили? По мне – так это было бы уж совсем несимпатично. А главное – зачем вам-то это надо? Почему так хочется, чтобы дети, которым повезло купаться в обстоятельствах, созданных их родителями, непременно при этом изображали скромников и аскетов, не катались на гелендвагенах, скрывали свои совершенно естественные чувства и вполне правильные мнения? Ведь то, что «везде лучше, чем в рашке» - вполне себе объективная реальность. Будь иначе, все, кто только имеет возможность (начиная с самых главных «патриотов» из депутатов и чиновников), не держали бы свои семьи и активы за ее пределами.
Человеку, не понимающему, что он живет в дерьме, нормально испытывать возмущение, когда ему о том говорят, но в данном случае возмущающиеся прекрасно отдают себе отчет в том, где они живут. А вот ужасно им хочется, чтобы живущие иначе не напоминали им о своем существовании. Совершенно не испытывая такой потребности, чувствую себя большим оригиналом.
Человеку, не понимающему, что он живет в дерьме, нормально испытывать возмущение, когда ему о том говорят, но в данном случае возмущающиеся прекрасно отдают себе отчет в том, где они живут. А вот ужасно им хочется, чтобы живущие иначе не напоминали им о своем существовании. Совершенно не испытывая такой потребности, чувствую себя большим оригиналом.
Published on October 27, 2016 02:12
October 19, 2016
salery @ 2016-10-19T12:24:00
Очередное потрясение умов вызвало установление памятника грозному Ивану. Вопрос, правильно ли ставить памятник много сделавшему традиционному правителю, если он был при том маньяком и садистом, вполне себе дискуссионный, если бы только речь шла о памятнике именно и только Ивану IV. Но в данном случае памятник ставился не столько ему, сколько совсем другому персонажу, себя с ним (хотя и безосновательно) отождествлявшему (лучшей иллюстрации, чем присутствие на открытии бесноватой троицы Проханов-Кургинян-Залдостанов и придумать нельзя). Отчего интересно было наблюдать за поведением в этом вопросе вышней власти. Потому что в наших конкретных обстоятельствах пропагандистский эффект (как хорошо заметно и по откликам трудящихся) касался даже не общих параллелей Грозный-Сталин, а одной вполне конкретной – расправе с «элитой».
Неприязнь «народа» к всему тому, что выше него и желание расправиться с тем, что стоит между ним и верховной властью (которая единственно бывает объектом признания) вполне традиционны и обычны («чиновников», «олигархов», «богатеев», «бояр», «политиканов» нигде не любят). В условиях же РФ, где элита не отличается от массы населения ни происхождением, ни культурой, ни образованием («чем мы хуже») такая неприязнь тем более логична. Ну и объективно-то достаточно очевидно, что без «снесения» практически полностью этого слоя «ничего хорошего» не будет (он элементарно «не годится»).
И вот власть, как и вообще ей свойственно поступать, в этом вопросе ведет себя крайне непоследовательно и неуверенно. Она ни в коем случае не хочет и не может реально поступить в «грозно-сталинском» духе, но очень хотела бы потрафить народному сознанию и убедить население, что нечто такое очень даже возможно, поддерживая его в соответствующих ожиданиях. Однако при этом и особо переборщить тут побаивается.
Помню, летом по главному офиц. каналу в «Вестях» прошел большой сюжет про грядущий орловский памятник – и в крайне отрицательном духе, практически теми словами, что ныне звучат от противников установки монумента. Затем, однако, когда «патриотическая общественность» (с которой тоже в условиях усиления внешней конфронтации открыто ссориться не резон) проявила настойчивость, позиция поменялась вплоть до того, что Садовничему поручили поддержать установку от имени МГУ (самому «народному академику», будь он хоть трижды воплощением «Грядущего Хама», проявить такую инициативу в голову не пришло бы просто в силу дисциплинированности).
То есть решено было поступить, «как всегда»: на памятник любуйтесь, надейтесь и ждите, а с боярами – это мы посмотрим («бережное отношение к кадрам» - это ж тоже хорошая советская традиция). А кроме населения, есть же еще и «уважаемые партнеры», которых тоже по пусту раздражать не хочется (раз уж стремиться найти с ними «компромисс» по реально значимым поводам). Меня вот очень позабавило, что одновременно с установкой монумента (логично дополняющего череду бюстов «советскому Грозному» по городам и весям) возникла идея назначения на ключевую должность по внутренней политике «младореформатора» Кириенко. Пусть, вот, кто хочет, попытается представить его в роли Малюты Скуратова.
Плевок в «патриотическую» душу? Ну что вы, что вы – душу-то мы вам еще как памятником-то согрели. Получили свое, так не могите возмущаться. Это как совковая атрибутика в роли болеутоляющего от «социальной несправедливости» средства в более общем ключе. Ничего нового, но занятно.
Неприязнь «народа» к всему тому, что выше него и желание расправиться с тем, что стоит между ним и верховной властью (которая единственно бывает объектом признания) вполне традиционны и обычны («чиновников», «олигархов», «богатеев», «бояр», «политиканов» нигде не любят). В условиях же РФ, где элита не отличается от массы населения ни происхождением, ни культурой, ни образованием («чем мы хуже») такая неприязнь тем более логична. Ну и объективно-то достаточно очевидно, что без «снесения» практически полностью этого слоя «ничего хорошего» не будет (он элементарно «не годится»).
И вот власть, как и вообще ей свойственно поступать, в этом вопросе ведет себя крайне непоследовательно и неуверенно. Она ни в коем случае не хочет и не может реально поступить в «грозно-сталинском» духе, но очень хотела бы потрафить народному сознанию и убедить население, что нечто такое очень даже возможно, поддерживая его в соответствующих ожиданиях. Однако при этом и особо переборщить тут побаивается.
Помню, летом по главному офиц. каналу в «Вестях» прошел большой сюжет про грядущий орловский памятник – и в крайне отрицательном духе, практически теми словами, что ныне звучат от противников установки монумента. Затем, однако, когда «патриотическая общественность» (с которой тоже в условиях усиления внешней конфронтации открыто ссориться не резон) проявила настойчивость, позиция поменялась вплоть до того, что Садовничему поручили поддержать установку от имени МГУ (самому «народному академику», будь он хоть трижды воплощением «Грядущего Хама», проявить такую инициативу в голову не пришло бы просто в силу дисциплинированности).
То есть решено было поступить, «как всегда»: на памятник любуйтесь, надейтесь и ждите, а с боярами – это мы посмотрим («бережное отношение к кадрам» - это ж тоже хорошая советская традиция). А кроме населения, есть же еще и «уважаемые партнеры», которых тоже по пусту раздражать не хочется (раз уж стремиться найти с ними «компромисс» по реально значимым поводам). Меня вот очень позабавило, что одновременно с установкой монумента (логично дополняющего череду бюстов «советскому Грозному» по городам и весям) возникла идея назначения на ключевую должность по внутренней политике «младореформатора» Кириенко. Пусть, вот, кто хочет, попытается представить его в роли Малюты Скуратова.
Плевок в «патриотическую» душу? Ну что вы, что вы – душу-то мы вам еще как памятником-то согрели. Получили свое, так не могите возмущаться. Это как совковая атрибутика в роли болеутоляющего от «социальной несправедливости» средства в более общем ключе. Ничего нового, но занятно.
Published on October 19, 2016 02:21
October 2, 2016
salery @ 2016-10-02T10:16:00
Недели две назад вышел, наконец, словарь, где я попытался представить основные сведения о гражданском чиновничестве РИ первых четырех (для XVIII в. - также и пятого) классов. Таковых обнаружилось более 22 тысяч, но благодаря системе сокращений удалось уместить каждого в 1-3 строки. Словарь мне виделся изданием популярно-мемориального характера, и используя более мелкий шрифт и тонкую бумагу, можно было вдвое снизить стоимость, но, к сожалению, издательство, привыкшее издавать очень хорошо, ко мне не прислушалось, и я уже слышал, что его продают где-то тысячи за полторы, так что едва ли он выполнит свою задачу (я лично не покупаю книг за такую цену). Под катом, если кому интересно, воспроизводится предисловие.
В настоящем издании делается попытка представить по возможности полный список российского высшего чиновничества (гражданского «генералитета») с начала XVIII в. до 1917 г. Абсолютное большинство этих лиц никогда не фигурировало в биографических словарях. В советское время такие словари в принципе не могли появиться, а в наиболее крупных и широко известных дореволюционных российских справочных изданиях (в словаре Брокгауза и Ефрона и Русском биографическом словаре) эта категория деятелей представлена хуже всего (в том числе и хуже военного генералитета; отражено менее 10%), причем даже в имеющихся статьях о лицах, известных литературной или научной деятельностью, часто совершенно игнорируются сведения об их службе и о том, что они имели чины действительных статских или тайных советников. В самое последнее время появились основательные издания, посвященные министрам и членам Государственного совета Российской империи (фактически были опубликованы их полные послужные списки), но они охватывают лишь несколько сот человек, тогда как гражданский «генералитет» составлял многие тысячи лиц. Поэтому представляется необходимым привести хотя бы краткие сведения о его представителях.
Настоящий словарь включает имена (всего более 22 тыс. человек) представителей высшего гражданского чиновничества России, то есть лиц, имевших гражданские или придворные чины первых четырех классов по Табели о рангах, а для XVIII в. - также и пятого класса – статских советников, которые тогда образовывали единую с чинами первого-четвертого классов социальную группу (включены также некоторые лица, занимавшие в начале XVIII в. высшие гражданские должности, но умершие до введения Табели о рангах, а также чины малороссийской генеральной старшины XVIII в.).
Основанием для включения в словарь было исключительно наличие у данного лица гражданского или придворного чина указанных классов, а не занимаемые должности (очень часто высшие гражданские должности занимались генералами без переименования их в соответствующие гражданские чины). При этом включались и все те, кто имел военные генеральские чины, но хотя бы некоторое время состоял в высших гражданских или придворных чинах. Включены в словарь и лица, имевшие генеральские чины четырех “военизированных” в первой половине XIX в. (до 1867 г.) гражданских служб: Корпуса инженеров путей сообщения (с 1809 г.), Корпуса горных инженеров (с 1834 г.), Корпуса лесничих (с 1839 г.) и Корпуса межевых инженеров (с 1849 г.). Служащие этих корпусов, хотя и носили форму военного образца, были по существу гражданскими чиновниками, и их “генералы”, в общеармейские “Списки генералам по старшинству” никогда не включались.
При этом учтены только те лица, которые получили соответствующие чины на действительной службе (независимо от занимаемых должностей), а не при отставке. В России XVIII - начала XX вв. была распространена практика награждения при отставке следующим по старшинству чином (хотя на гражданской службе в меньших масштабах, чем на военной). Производство при отставке было формой поощрения и не влекло за собой полноту соответствующих прав (например, на лиц, производимых в чины, дающие права потомственного дворянства, не на действительной службе, а при отставке, эти права не распространялись).
***
В основу настоящего издания легла выборка из составляемого мною на протяжении многих лет (на базе обработки разного рода официальных изданий) общего свода лиц, служивших в офицерских и классных чинах в Российской империи (включающего более миллиона человек), что, собственно, и позволило определить общий круг необходимых для включения в словарь лиц.
Для составления словаря использовались прежде всего данные официальных “Списков по старшинству”, которые со второй половины 1760-х годов регулярно издавались с изменениями (в некоторые периоды - несколько раз в год) и представляли собой практическое пособие для определения сравнительного старшинства лиц, находящихся в одном и том же чине (они сообщали даты вступления в службу, в первый классный чин и производства в высшие чины, последнюю должность и награды). Использовались также некоторые ведомственные издания (для начала ХХ в. дающие более подробные сведения) и списки выпускников различных учебных заведений.
Однако за некоторые годы эти издания не сохранились или оказались недоступны (в ряде случаев недостающую информацию удавалось восполнить за счет таких же “Списков по старшинству” чинам более низких классов). Кроме того, в 1797-1800 и 1818-1840 годах в списках указывалась только фамилия, и при наличии многочисленных родственников и однофамильцев даже с привлечением дополнительных источников не всегда удавалось отождествить некоторых лиц с теми, которые встречаются в других (более ранних, более поздних или другого рода) изданиях или найти для них дополнительные данные. Для первой половины XVIII в. некоторые носители высших гражданских чинов известны только по отдельным упоминаниям в разного рода документах. Наконец, некоторые лица, произведенные в чин четвертого класса, успевали умереть или выйти в отставку до издания очередного «списка по старшинству». В ряде случаев не удавалось точно установить, получен ли чин действительного статского советника на действительной службе или при отставке (у таких лиц в словаре перед фамилией стоит «*»).
Помимо официальных изданий (прежде всего для определения дат жизни) широко использовалась многочисленная и разнообразная генеалогическая литература (как XIX в., так и появившаяся в последние 20 лет) и некрополи (прежде всего многотомные издания начала ХХ в., осуществленные под покровительством Вел. князя Николая Михайловича). Тем не менее, некоторое число лиц, отвечающих критериям включения в словарь (едва ли превышающее 3-4%), было все-таки пропущено.
***
Справки о включенных в словарь лицах составлены по единой схеме и включают, по возможности, следующие данные: 1) фамилия, имя и отчество; 2) сведения о рождении и происхождении; лица, достоверно принадлежащие к одному роду отмечены «*» после фамилии (если это не очевидные случаи); 3) время поступления на службу и производства в первый классный чин (в скобках указывается полученное образование, если его удалось установить), при этом в случаях перехода с военной службы указывается последний военный чин с датой его получения; 4) даты производства в высшие чины; 5) род деятельности или ведомство (для служивших в последние годы перед 1917, а также в ряде случаев ранее, названы занимавшиеся ими наиболее значимые должности); 6) время отставки и смерти. В конце в косых скобках дается дата последнего упоминания в списках по старшинству, которая при отсутствии иных данных дает представление о времени окончания службы (хотя в ряде случаев исключение из списка могло сильно запаздывать).
При этом соблюдались следующие принципы. Написание фамилий (они часто даже в официальных изданиях разных лет и разных ведомств при обозначении не только представителей одного рода, но и одного и того же конкретного лица писались различным образом) принято в том виде, в каком фамилия данного рода обычно писалась в официальных изданиях в более позднее время (в конце XIX - начале ХХ в.). Родовые титулы и дворянские предикаты “фон” и “де” (по смыслу и значению своему неотделимые от фамилий), помещены перед фамилией, как это и было принято. При этом представители титулованных родов или ветвей рода помещены после своих нетитулованных однофамильцев или родственников. Иностранцы и представители Остзейского края и Финляндии приводятся в словаре с теми именами и отчествами, с которыми они известны на службе, обычно созвучными данным при рождении: Василий - Вильгельм, Федор - Фридрих и т.д. (тогда как в некрополях и генеалогических росписях они чаще всего значатся под своими природными именами).
Даты рождения и вступления в службу (поскольку в XVIII в. иногда формально записывали в службу с детских лет) в разных источниках могут отличаться довольно сильно; как наиболее достоверная принималась та, которая в большей мере соответствует другим фактам биографии. В сомнительных случаях вторая дата поставлена в скобках. Даты окончания учебных заведений приводятся только в тех случаях, когда они отличаются от даты вступления в службу; эти даты приводятся по данным списков выпускников соответствующих заведений. Следует иметь в виду, что в первой половине XIX в. учебные заведения корпусов инженеров путей сообщения, горных и межевых инженеров и лесничих выпускали своих воспитанников не гражданскими, а офицерскими чинами.
***
В начале XVIII в. до введения в 1722 г. Табели о рангах в качестве высшего гражданского чина выступал чин тайного советника, принятый по образцу некоторых европейских дворов, где тайные советники были членами Тайного (личного) совета при монархе. Имело место также пожалование чина действительного тайного советника. В Табели о рангах (где для каждого класса предусматривались конкретные должности), действительные тайные советники первоначально значились во II, а тайные советники – в IV классе, но уже в 1724 г. иерархия высших чинов приняла тот вид, который она имела в дальнейшем: в I классе – канцлер (позже – и действительный тайный советник I класса), во II - действительный тайный советник, в III - тайный советник, в IV - действительный статский советник, в V – статский советник. В конце XVIII в. с упразднением соответствующего статскому советнику военного чина бригадира и резким ростом численности статских советников, значение этого чина упало, и он утратил статус «генеральского» (по указу 1799 г. на него было распространено производство по сроку выслуги, тогда как пожалование исключительно по личному усмотрению императора было оставлено только для первых четырех классов).
Если высшие гражданские чины очень быстро отделились от названий связанных с ними должностей, то придворные сохраняли названия, одноименные с должностями, хотя в дальнейшем, особенно во второй половине XIX в., лишь немногие из носителей этих чинов действительно занимали должности соответствующего наименования (например, высшие придворные чины вместо гражданских очень часто давались высшим дипломатам). Высшие придворные чины несколько раз меняли свое положение в системе классов. До Табели о рангах высшими придворными чинами были камергеры и камер-юнкеры. В первое время после 1722 г. во II классе значился обер-маршал, в III – обер-шталмейстер, в IV - обер-камергер, в V – обер-шенк, гофмейстер, обер-гоф-шталмейстер и др. В 30-40-х годах придворный штат несколько раз менялся, появлялись новые чины. С 1796 г. во II классе считались чины обер-камергера, обер-гофмейстера, обер-гофмаршала, обер-шенка, обер-шталмейстера и обер-егермейстера, в III – гофмейстера, гофмаршала, шталмейстера, егермейстера и обер-церемониймейстера, в IV – камергера, в V – церемониймейстера. После того, как в 1809 г. чин камергера был преобразован в почетное звание и утратил связь с общегосударственными рангами, все придворные чины «генеральского» уровня стали относиться к II и III классам.
В XVIII в. число высших гражданских и придворных чинов было очень невелико (к 1755 всех лиц первых пяти классов насчитывалось всего 145 человек). В следующем столетии она существенно выросла. На 1840 г. гражданских (и придворных) чинов высших 4-х классов имелось 640 (в том числе 40 - II класса, 152 - III и 448 - IV), на 1847 – 691 (1 - I класса, 40 – II, 166 - III и 484 - IV), на 1858 г. – 898 (2 - I класса, 47 – II, 178 - III и 671 - IV). Численность гражданских чиновников высших классов росла вместе с общей численностью гражданского чиновничества, но при этом более высокими темпами, поскольку в XIX в. все чаще в этих чинах находились лица, не связанные непосредственно с регулярным административным аппаратом: почетные попечители различных благотворительных и учебных заведений, причисленные к разным ведомствам без определенных занятий, выборные предводители дворянства (лицам, прослужившим губернскими предводителями три трехлетия, присваивался чин действительного статского советника) и др. Поскольку же должности могли замещаться и лицами, имеющими более высокий чин, чем предусмотренный для них штатным расписанием, к концу XIX в. число лиц, имевших чины III и IV классов втрое превышало число должностей, предусмотренное для этих классов. К 1916 г. численность высших гражданских чинов составила 6149 чел. (в том числе 85 - II класса, 708 - III и 5356 - IV).
Производство во все высшие гражданские чины «генеральского» уровня всегда было изъято их общих правил о производстве по выслуге лет и за отличие и зависело только от верховной власти. Причем со временем требования, необходимые для представления к чину IV класса, ужесточались. С 1898 г. он мог испрашиваться только после пяти лет пребывания в предыдущем чине и при занятии должности не ниже V класса, а в 1900 г. к этому добавилось и требование прослужить в классных чинах не менее 20 лет (причем если срок службы в предыдущем чине за выдающиеся отличия мог быть сокращен до трех лет, то на это условие никакие отличия не влияли). До самого конца существования исторической российской государственности производство в гражданский чин IV класса продолжало приносить его обладателю права потомственного дворянства.
В настоящем издании делается попытка представить по возможности полный список российского высшего чиновничества (гражданского «генералитета») с начала XVIII в. до 1917 г. Абсолютное большинство этих лиц никогда не фигурировало в биографических словарях. В советское время такие словари в принципе не могли появиться, а в наиболее крупных и широко известных дореволюционных российских справочных изданиях (в словаре Брокгауза и Ефрона и Русском биографическом словаре) эта категория деятелей представлена хуже всего (в том числе и хуже военного генералитета; отражено менее 10%), причем даже в имеющихся статьях о лицах, известных литературной или научной деятельностью, часто совершенно игнорируются сведения об их службе и о том, что они имели чины действительных статских или тайных советников. В самое последнее время появились основательные издания, посвященные министрам и членам Государственного совета Российской империи (фактически были опубликованы их полные послужные списки), но они охватывают лишь несколько сот человек, тогда как гражданский «генералитет» составлял многие тысячи лиц. Поэтому представляется необходимым привести хотя бы краткие сведения о его представителях.
Настоящий словарь включает имена (всего более 22 тыс. человек) представителей высшего гражданского чиновничества России, то есть лиц, имевших гражданские или придворные чины первых четырех классов по Табели о рангах, а для XVIII в. - также и пятого класса – статских советников, которые тогда образовывали единую с чинами первого-четвертого классов социальную группу (включены также некоторые лица, занимавшие в начале XVIII в. высшие гражданские должности, но умершие до введения Табели о рангах, а также чины малороссийской генеральной старшины XVIII в.).
Основанием для включения в словарь было исключительно наличие у данного лица гражданского или придворного чина указанных классов, а не занимаемые должности (очень часто высшие гражданские должности занимались генералами без переименования их в соответствующие гражданские чины). При этом включались и все те, кто имел военные генеральские чины, но хотя бы некоторое время состоял в высших гражданских или придворных чинах. Включены в словарь и лица, имевшие генеральские чины четырех “военизированных” в первой половине XIX в. (до 1867 г.) гражданских служб: Корпуса инженеров путей сообщения (с 1809 г.), Корпуса горных инженеров (с 1834 г.), Корпуса лесничих (с 1839 г.) и Корпуса межевых инженеров (с 1849 г.). Служащие этих корпусов, хотя и носили форму военного образца, были по существу гражданскими чиновниками, и их “генералы”, в общеармейские “Списки генералам по старшинству” никогда не включались.
При этом учтены только те лица, которые получили соответствующие чины на действительной службе (независимо от занимаемых должностей), а не при отставке. В России XVIII - начала XX вв. была распространена практика награждения при отставке следующим по старшинству чином (хотя на гражданской службе в меньших масштабах, чем на военной). Производство при отставке было формой поощрения и не влекло за собой полноту соответствующих прав (например, на лиц, производимых в чины, дающие права потомственного дворянства, не на действительной службе, а при отставке, эти права не распространялись).
***
В основу настоящего издания легла выборка из составляемого мною на протяжении многих лет (на базе обработки разного рода официальных изданий) общего свода лиц, служивших в офицерских и классных чинах в Российской империи (включающего более миллиона человек), что, собственно, и позволило определить общий круг необходимых для включения в словарь лиц.
Для составления словаря использовались прежде всего данные официальных “Списков по старшинству”, которые со второй половины 1760-х годов регулярно издавались с изменениями (в некоторые периоды - несколько раз в год) и представляли собой практическое пособие для определения сравнительного старшинства лиц, находящихся в одном и том же чине (они сообщали даты вступления в службу, в первый классный чин и производства в высшие чины, последнюю должность и награды). Использовались также некоторые ведомственные издания (для начала ХХ в. дающие более подробные сведения) и списки выпускников различных учебных заведений.
Однако за некоторые годы эти издания не сохранились или оказались недоступны (в ряде случаев недостающую информацию удавалось восполнить за счет таких же “Списков по старшинству” чинам более низких классов). Кроме того, в 1797-1800 и 1818-1840 годах в списках указывалась только фамилия, и при наличии многочисленных родственников и однофамильцев даже с привлечением дополнительных источников не всегда удавалось отождествить некоторых лиц с теми, которые встречаются в других (более ранних, более поздних или другого рода) изданиях или найти для них дополнительные данные. Для первой половины XVIII в. некоторые носители высших гражданских чинов известны только по отдельным упоминаниям в разного рода документах. Наконец, некоторые лица, произведенные в чин четвертого класса, успевали умереть или выйти в отставку до издания очередного «списка по старшинству». В ряде случаев не удавалось точно установить, получен ли чин действительного статского советника на действительной службе или при отставке (у таких лиц в словаре перед фамилией стоит «*»).
Помимо официальных изданий (прежде всего для определения дат жизни) широко использовалась многочисленная и разнообразная генеалогическая литература (как XIX в., так и появившаяся в последние 20 лет) и некрополи (прежде всего многотомные издания начала ХХ в., осуществленные под покровительством Вел. князя Николая Михайловича). Тем не менее, некоторое число лиц, отвечающих критериям включения в словарь (едва ли превышающее 3-4%), было все-таки пропущено.
***
Справки о включенных в словарь лицах составлены по единой схеме и включают, по возможности, следующие данные: 1) фамилия, имя и отчество; 2) сведения о рождении и происхождении; лица, достоверно принадлежащие к одному роду отмечены «*» после фамилии (если это не очевидные случаи); 3) время поступления на службу и производства в первый классный чин (в скобках указывается полученное образование, если его удалось установить), при этом в случаях перехода с военной службы указывается последний военный чин с датой его получения; 4) даты производства в высшие чины; 5) род деятельности или ведомство (для служивших в последние годы перед 1917, а также в ряде случаев ранее, названы занимавшиеся ими наиболее значимые должности); 6) время отставки и смерти. В конце в косых скобках дается дата последнего упоминания в списках по старшинству, которая при отсутствии иных данных дает представление о времени окончания службы (хотя в ряде случаев исключение из списка могло сильно запаздывать).
При этом соблюдались следующие принципы. Написание фамилий (они часто даже в официальных изданиях разных лет и разных ведомств при обозначении не только представителей одного рода, но и одного и того же конкретного лица писались различным образом) принято в том виде, в каком фамилия данного рода обычно писалась в официальных изданиях в более позднее время (в конце XIX - начале ХХ в.). Родовые титулы и дворянские предикаты “фон” и “де” (по смыслу и значению своему неотделимые от фамилий), помещены перед фамилией, как это и было принято. При этом представители титулованных родов или ветвей рода помещены после своих нетитулованных однофамильцев или родственников. Иностранцы и представители Остзейского края и Финляндии приводятся в словаре с теми именами и отчествами, с которыми они известны на службе, обычно созвучными данным при рождении: Василий - Вильгельм, Федор - Фридрих и т.д. (тогда как в некрополях и генеалогических росписях они чаще всего значатся под своими природными именами).
Даты рождения и вступления в службу (поскольку в XVIII в. иногда формально записывали в службу с детских лет) в разных источниках могут отличаться довольно сильно; как наиболее достоверная принималась та, которая в большей мере соответствует другим фактам биографии. В сомнительных случаях вторая дата поставлена в скобках. Даты окончания учебных заведений приводятся только в тех случаях, когда они отличаются от даты вступления в службу; эти даты приводятся по данным списков выпускников соответствующих заведений. Следует иметь в виду, что в первой половине XIX в. учебные заведения корпусов инженеров путей сообщения, горных и межевых инженеров и лесничих выпускали своих воспитанников не гражданскими, а офицерскими чинами.
***
В начале XVIII в. до введения в 1722 г. Табели о рангах в качестве высшего гражданского чина выступал чин тайного советника, принятый по образцу некоторых европейских дворов, где тайные советники были членами Тайного (личного) совета при монархе. Имело место также пожалование чина действительного тайного советника. В Табели о рангах (где для каждого класса предусматривались конкретные должности), действительные тайные советники первоначально значились во II, а тайные советники – в IV классе, но уже в 1724 г. иерархия высших чинов приняла тот вид, который она имела в дальнейшем: в I классе – канцлер (позже – и действительный тайный советник I класса), во II - действительный тайный советник, в III - тайный советник, в IV - действительный статский советник, в V – статский советник. В конце XVIII в. с упразднением соответствующего статскому советнику военного чина бригадира и резким ростом численности статских советников, значение этого чина упало, и он утратил статус «генеральского» (по указу 1799 г. на него было распространено производство по сроку выслуги, тогда как пожалование исключительно по личному усмотрению императора было оставлено только для первых четырех классов).
Если высшие гражданские чины очень быстро отделились от названий связанных с ними должностей, то придворные сохраняли названия, одноименные с должностями, хотя в дальнейшем, особенно во второй половине XIX в., лишь немногие из носителей этих чинов действительно занимали должности соответствующего наименования (например, высшие придворные чины вместо гражданских очень часто давались высшим дипломатам). Высшие придворные чины несколько раз меняли свое положение в системе классов. До Табели о рангах высшими придворными чинами были камергеры и камер-юнкеры. В первое время после 1722 г. во II классе значился обер-маршал, в III – обер-шталмейстер, в IV - обер-камергер, в V – обер-шенк, гофмейстер, обер-гоф-шталмейстер и др. В 30-40-х годах придворный штат несколько раз менялся, появлялись новые чины. С 1796 г. во II классе считались чины обер-камергера, обер-гофмейстера, обер-гофмаршала, обер-шенка, обер-шталмейстера и обер-егермейстера, в III – гофмейстера, гофмаршала, шталмейстера, егермейстера и обер-церемониймейстера, в IV – камергера, в V – церемониймейстера. После того, как в 1809 г. чин камергера был преобразован в почетное звание и утратил связь с общегосударственными рангами, все придворные чины «генеральского» уровня стали относиться к II и III классам.
В XVIII в. число высших гражданских и придворных чинов было очень невелико (к 1755 всех лиц первых пяти классов насчитывалось всего 145 человек). В следующем столетии она существенно выросла. На 1840 г. гражданских (и придворных) чинов высших 4-х классов имелось 640 (в том числе 40 - II класса, 152 - III и 448 - IV), на 1847 – 691 (1 - I класса, 40 – II, 166 - III и 484 - IV), на 1858 г. – 898 (2 - I класса, 47 – II, 178 - III и 671 - IV). Численность гражданских чиновников высших классов росла вместе с общей численностью гражданского чиновничества, но при этом более высокими темпами, поскольку в XIX в. все чаще в этих чинах находились лица, не связанные непосредственно с регулярным административным аппаратом: почетные попечители различных благотворительных и учебных заведений, причисленные к разным ведомствам без определенных занятий, выборные предводители дворянства (лицам, прослужившим губернскими предводителями три трехлетия, присваивался чин действительного статского советника) и др. Поскольку же должности могли замещаться и лицами, имеющими более высокий чин, чем предусмотренный для них штатным расписанием, к концу XIX в. число лиц, имевших чины III и IV классов втрое превышало число должностей, предусмотренное для этих классов. К 1916 г. численность высших гражданских чинов составила 6149 чел. (в том числе 85 - II класса, 708 - III и 5356 - IV).
Производство во все высшие гражданские чины «генеральского» уровня всегда было изъято их общих правил о производстве по выслуге лет и за отличие и зависело только от верховной власти. Причем со временем требования, необходимые для представления к чину IV класса, ужесточались. С 1898 г. он мог испрашиваться только после пяти лет пребывания в предыдущем чине и при занятии должности не ниже V класса, а в 1900 г. к этому добавилось и требование прослужить в классных чинах не менее 20 лет (причем если срок службы в предыдущем чине за выдающиеся отличия мог быть сокращен до трех лет, то на это условие никакие отличия не влияли). До самого конца существования исторической российской государственности производство в гражданский чин IV класса продолжало приносить его обладателю права потомственного дворянства.
Published on October 02, 2016 00:13
Сергей Владимирович Волков's Blog
- Сергей Владимирович Волков's profile
- 4 followers
Сергей Владимирович Волков isn't a Goodreads Author
(yet),
but they
do have a blog,
so here are some recent posts imported from
their feed.



